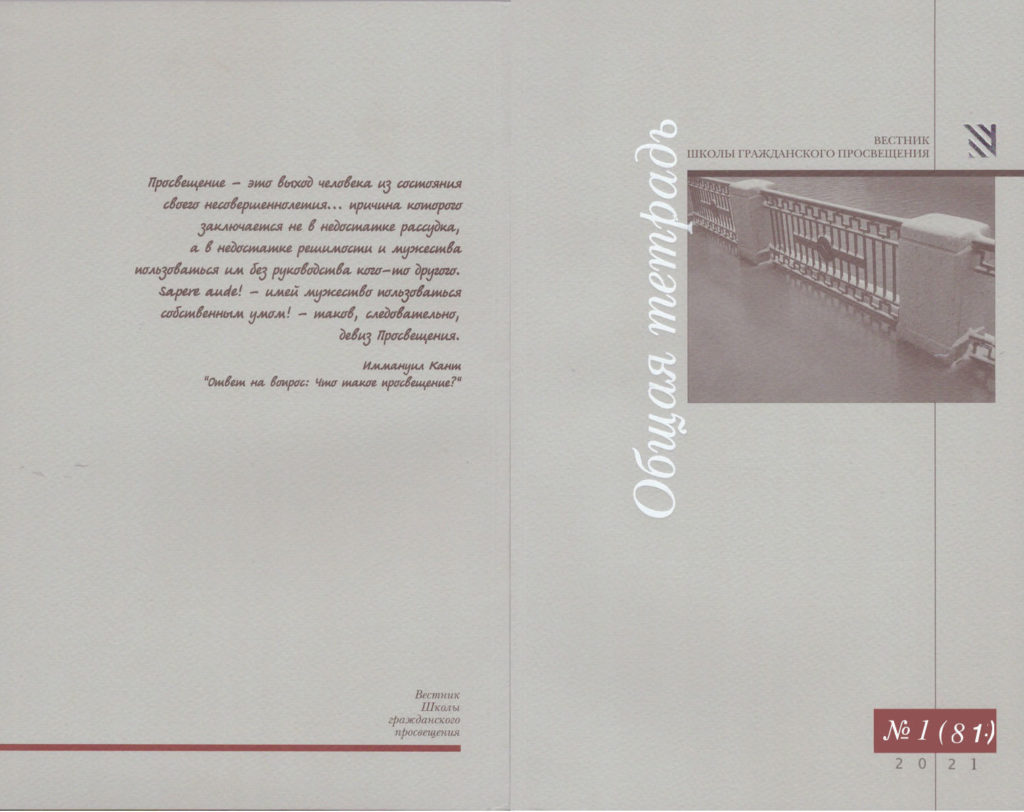Ханна Арендт определяла публичное пространство как место встреч свободных граждан, где они могут открыто высказывать свое мнение и в процессе равноправной дискуссии приходить к согласию. В советское время отсутствие таких площадок восполняли кухни, но никаким публичным пространством они, конечно, не являлись, говорит основатель Школы гражданского просвещения Елена Немировская: «Это закрытое пространство, где собирались единомышленники. Идея как раз была в том, чтобы не выходить из него». С момента распада Советского союза прошло почти три десятилетия, но практика публичных дискуссий так и не стала в российском обществе общепринятой. Когда в стране отсутствует культура публичного высказывания, с любыми попытками подискутировать чрезвычайно легко расправиться, полагает Елена Немировская.
Что такое публичное пространство, зачем оно необходимо в гражданском обществе и что нужно сделать, чтобы оно сложилось в России? Ответы на эти и многие другие вопросы вместе искали эксперты и участники семинара Школы гражданского просвещения, который прошел в «Мемориале» 6 июля 2019 года.
«Мы не можем создать оппозицию, потому что мы такие же безжалостные, как сама власть»
Ирина Прохорова — о новой этике и пространстве общественного диалога

В России так и не появилась платформа для публичной дискуссии, полагает Ирина Прохорова. Интеллигенция, которая была двигателем революции 1991 года, рассеялась, а новая среда или не сформировалась вовсе, или не ощущает себя этой средой, не имеет своего выразителя мнений. Но почему это происходит? Все дело в разобщенности.
Еще дореволюционные мыслители отмечали появление аскетического этоса, который заключался в отказе от материальных благ и самопожертвовании ради высоких идей. Этому посвящен почти весь сборник «Вехи», куда писали и Сергей Булгаков, и Николай Бердяев, и Петр Струве. Идея стала главным способом существования и для убежденных революционеров, и просто для сознательной интеллигенции, отмечает Прохорова. По ее словам, традицию переняла не только советская власть — она дожила и до наших дней, правда, в форме «странной мутации»: «Призыв к аскетизму остался, а подвижничество исчезло».
Аскетическим пафосом «больше всего заражены диванные критики, которые ничего не делают», но четко следуют «принципу радикальной непримиримости: кто соглашатель, кто посмел взять грант у государства», говорит Ирина Прохорова. Недопустимо, по ее мнению, ругать «своих» в условиях, когда нельзя поругать власть; это — «социальный аутизм». «Сначала надо создать контекст, а уже потом в мелочах разбираться»,— призывает она. Между тем даже те люди, которые «смотрят телевизор» или «разделяют какие-то предрассудки», способны «и на подвиг, и на самопожертвование, и на достоинство», убеждена эксперт. Так, вполне «лояльные [власти] во многих других отношениях» жители Архангельской области «восстают против мусорных свалок». «А когда вы идете к врачу, вам не все равно, человек за Крым или против Крыма, если он честный профессионал?» — рассуждает Прохорова.
Отказываясь рассматривать как потенциальных союзников людей, чья точка зрения хотя бы минимально расходится с нашей, мы сами оказываемся согласны с властью — по крайней мере, с принципами ее управления, приходит к выводу она: «Мы не можем создать оппозицию, потому что мы такие же безжалостные, как сама власть». Если «мерить людей только по политическому, количество наших сторонников всегда будет мизерное», полагает Прохорова: «Более сложный взгляд на общество, понимание ситуации позволило бы нам переформулировать задачи и увидеть тот потенциал, который мы сейчас не видим».
Выстраивать систему объединения, по мнению Ирины Прохоровой, можно было бы на идее гуманизма, которую «власть совершенно не приемлет». Для общества же она может стать «точкой опоры и единения»: у живущих в России людей, постоянно сталкивающихся с унижениями и оскорблениями, идея милосердия и гуманности может вызвать отклик: «Мне кажется, что люди устали от жестокости. Это показывает и история с Грузией». Москва разорвала прямое авиасообщение с Тбилиси после скандала во время визита в Грузию российской делегации, однако к росту антигрузинских настроений это не привело. «На бурю в стакане воды народ не реагирует, а вся эта имперская риторика оказывается неэффективной, — говорит Ирина Прохорова.— Может, попробовать говорить с людьми по-другому?»
«Государство — это абсолютное зло или набор разных институций и персоналий, склонных к определенным реформам?»
Алексей Макаркин — о диалоге и противоречиях внутри «модернистского сообщества»
Под «модернистским сообществом» мы понимаем группу сторонников реформ, направленных на переход от традиционного к современному обществу, расширение политических и экономических свобод, повышение открытости страны, говорит Алексей Макаркин. Когда эти процессы реализуются успешно, «модернизация проходит бесконфликтно, и серьезных разломов не возникает». Каждая же попытка модернизировать Россию неизбежно сталкивалась со множеством проблем, серьезным противодействием сверху и пассивностью снизу. Среди сторонников перемен, процесс «сопровождался размежеваниями, причем размежеваниями драматическими», рассказывает эксперт: в конфликт друг с другом вступали люди, которые знали друг друга, работали на одних кафедрах, печатались в одних и тех же журналах. Общей для этих людей, принадлежавших к разным эпохам и поколениям, становилась и проблема выбора. Алексей Макаркин формулирует ее так:
«Является ли государственная власть, которая проводит консервативную, реакционную политику, абсолютным препятствием на пути модернизации? Или она более сложный и противоречивый феномен, обладающий определенным модернизационным потенциалом? Что делать: бороться с государством или работать на государство? Воспринимать его как абсолютное зло или как набор разных институций, персоналий, с частью которых можно работать, и они могут быть склонны к определенным реформам?»
Эта проблема возникла в начале XIX века в связи с восстанием декабристов. Автор масштабных реформ М. М. Сперанский, которого декабристы прочили в состав временного правительства в случае своего прихода к власти, после подавления восстания оказался в ситуации, когда его самого подозревали в соучастии. «Тогда Сперанский выступил в не очень свойственной ему роли реакционера: стал членом Верховного уголовного суда и одним из тех, кто выступал за смертные приговоры. Николай I это оценил, позволив ему потом заниматься кодификацией законодательства», — говорит Алексей Макаркин. Вместе с тем, благодаря выбору Сперанского, удалось принять поправки в наиболее одиозные законы, и сама кодификация имела важное значение в повышении роли законности в России. Князь С. П. Трубецкой, который должен был стать военным «диктатором» декабристов, тоже был либералом, но не революционером: он успел подготовить свой манифест, но увидев, что ему предстоит руководить солдатской революцией, сломался и не явился на Сенатскую площадь. «Между либералом Сперанским и либералом Трубецким таким образом произошел разлом: одного его выбор привел к новым почестям, а второго — на каторгу и в сибирскую ссылку на тридцать лет». Была в этом сюжете и еще одна знаковая, хотя и менее известная фигура — С. Г. Краснокутский. «Боевой офицер, участник войны 1812 года, он командовал полком в армии, затем ушел в отставку и перешел на гражданскую службу. К моменту восстания Краснокутский был действительным статским советником, обер-прокурором сената. Он мог бы стать сенатором или даже подняться выше, — отметил Алексей Макаркин. — Но он сходил к декабристам, сообщил, когда будет присяга нового императора, и дал понять, что он будет с ними. За это он заплатил Сибирью, где тяжело заболел, и из Сибири уже не вернулся».
Подобный разлом произошел в 1911 году в Московском университете: министр народного просвещения Л. А. Кассо дал санкцию на вхождение полиции в Московский университет в обход его руководства. Три руководителя университета подали в отставку со своих постов: ректор А. А. Мануйлов, его помощник М. А. Мензбир и проректор П. А. Минаков.21 профессор и около 130 преподавателей и сотрудников университета подают заявления об уходе вслед за ними, в том числе В. И. Вернадский, Ф. Ф. Кокошкин, К. А. Тимирязев, В. П. Сербский; Кассо подписывает все заявления. Но идея «сейчас мы уйдем и покажем власти, что без нас невозможно» не срабатывает: среди оставшихся — не менее знаменитые имена. Это историк, будущий ректор М. К. Любавский, историк М. М. Богословский, юрист Л. А. Камаровский.«Первое, с чего начал новый ректор Любавский: отправился к министру Кассо хлопотать за 25 студентов, переписанных на одной из сходок полицией и подлежавших отчислению. Любавский их отстоял»,— отмечает Алексей Макаркин. Зоолог, профессор Г. А. Кожевников писал: «Мотивы тех профессоров, которые приняли решение выйти в отставку, глубоки, нравственно высоки и несут характер громадной жертвы<…> Я считаю, что ни при каких обстоятельствах не следует покидать своего поста, пока самое пребывание на нем не потеряло своего смысла».
В последнее время в России «усиливается разлом между разными группами сторонников модернизации», полагает Алексей Макаркин. Очаги модернизации — Вышка, Шанинка, Европейский университет в Санкт-Петербурге — оказываются между двух огней. Одни пишут, что «там воспитывают студентов, которые будут действовать в интересах Запада», другие — что позиция этих вузов «слишком умеренна, слишком компромиссна». Проходит разлом и по линии изоляции России на международной арене, а именно — возврата в ПАСЕ, отмечает эксперт. «Что важнее: то, что Европа отступила безо всяких условий и российская власть здесь победитель, или то, что у российских граждан сохраняется возможность для обращения в ЕСПЧ?»
Кто в итоге окажется инициатором перемен — сотрудничающие с властью или находящиеся к ней в жесткой оппозиции? «Перемены сверху лучше — хотя бы потому, что так мы не скатываемся в пугачевщину и большевизм», — полагает Алексей Макаркин. Но «вопрос о потенциале и готовности власти к переменам в каждую историческую эпоху решается отдельно», подчеркивает он. «На каком-то этапе они приходят, причем от самых неожиданных людей. Казалось бы, от кого никаких перемен не ждали, так это от Хрущева, с его одиозной ролью в репрессиях и образом неумного сталиниста», — рассуждает эксперт. И добавляет: «Россия — страна неожиданностей, здесь всякое происходит».
«Рациональная публичная сфера не возникнет сама собой, необходимо принуждение к диалогу»
Андрей Колесников и Григорий Юдин — о революции достоинства по-русски
В России прямо сейчас происходит революция достоинства, полагает Андрей Колесников. По стране прокатились протесты против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, произвола правоохранительных органов, вывоза мусора в Архангельскую область. Эти протесты спровоцированы не бедностью и низкими доходами, а ущемлением достоинства людей, неучетом их мнения. «Этот процесс зародился несколько лет назад и превратился в подземный пожар, который время от времени вспыхивает где-то, разрастается, потом гаснет, а потом вспыхивает в совершенно неожиданной точке еще раз»,— отмечает эксперт.
Колесников считает, что в России начало возрождаться понятие публичного пространства. «Понимание того, что существует публичное пространство, и его нужно защищать — это, безусловно, новое явление последнего времени»,— говорит он. «Модельная история» — это происходящее в Шиесе Архангельской области: «Это в прямом смысле гражданская война, где государство представлено в самых разных видах — от московской мэрии, которая когда-то приняла решение размещать мусор в Архангельске, до высшей власти, которая с этим согласилась, бизнеса, который подхватывает эти идеи, и работников ЧОПа, которые бьют протестующих». Кроме того, если обычно в таких историях люди останавливаются на решении прагматической задачи защиты собственной территории, то здесь происходит политизация, осознание прямой связи между устройством политической системы и того, что происходит «у нас в болотах». Несомненно, это протест против федеральной власти, считает эксперт.
«Мы являемся свидетелями очень важного процесса появления своего рода постдемократии, или демократии 2.0 — совершенно нового ее типа, когда нет лидеров, когда организации сетевые. Рассуждая о гражданском обществе, мы используем не только термин НКО, а понимаем, что оно в большей степени состоит не из организаций, а из людей — индивидов, индивидуальностей»,— говорит Колесников, подчеркивая, что мусорная проблема — одна из важнейших социальных, техногенных, политических проблем, порождающих «массовое пробуждение гражданского сознания». Новый президент Словакии Зузана Чапутова была когда-то адвокатом людей, которые боролись против мусорной свалки, победила в этой борьбе, а потом стала главой государства, напоминает эксперт: «Конечно, не очень наш случай, но серьезный пример того, как в современном обществе бывает».
Для российской власти начать вести разговор с гражданским обществом все еще означает потерю ее собственного достоинства и чести. В освобождении Ивана Голунова, по мнению Андрея Колесникова, ключевую роль сыграло не гражданское давление, а «подковерный диалог» с властью авторитетных для нее людей из оппозиции: «Власть ничего не делает под давлением общества».
Мы со всех сторон видим запрос на общественный диалог, говорит Григорий Юдин. В своих избирательных кампаниях в Мосгордуму кандидаты от власти опираются именно на этот запрос. Например, рассказывает Юдин, кандидат Роман Бабаян пишет на своих листовках: «Власти нас не слушают, и нам срочно необходим общественный диалог, какой должна быть Москва». «Понятно, что никакого диалога не будет, но то, что пиарщики понимают: есть запрос — это показательная история»,— отмечает эксперт.
Как начать диалог и по каким правилам его вести? Вопрос восходит к фигуре Иммануила Канта. Его идея заключалась в следующем: власти разрешают общественную дискуссию, а граждане обязуются соблюдать существующие правила, но имеют возможность принимать в ходе открытого диалога решение об их исправлении; важно, что пока нет консенсуса, никто не настаивает на смене правил. «Все хорошо с этой моделью, одна проблема: она не работает»,— говорит Григорий Юдин.
Почему? Во-первых, она не работала никогда: идея о том, что каждый может публично высказываться, не имела ничего общего с реальностью конца XVIII века, когда жил Кант. Не была модель и такой мирной, как ее пытался представить философ; тенденция на эмансипацию публичного разговора от решения единоличного суверена работала как модель революционная. Во-вторых, публичная сфера всегда исключала из себя тех, кто недостаточно компетентен, неспособен говорить на требуемом языке. В современной политике это приводит к господству технократизма и тотальной деполитизации, отсекая от политической дискуссии 90% людей. При этом протестующие сами не готовы осознать политический характер собственных притязаний в условиях, когда политическая направленность очевидна. «И раз за разом их удается легко обезоружить. Как вести политический диалог с человеком, который говорит, что он не про политику?» — поясняет Григорий Юдин. По его словам, «никто не заставляет нас любить нынешних правителей России», но есть сознательная деполитизация: это дело «грязное, корыстное, и поэтому иметь никакого отношения к этому не нужно». Юдин не согласен с Колесниковым в том, что решающую роль в деле Голунова сыграло не общественное давление. «Эти люди [из власти], конечно, хотят, чтобы гражданское общество в России предполагало, что [уступки] были сделаны вовсе не потому, что оно куда-то там вышло — это часть стратегии по деполитизации. На эту удочку важно не ловиться»,— объяснил эксперт.
Значит ли это, что надежду на взаимопонимание и рациональную публичную сферу надо оставить? Как минимум не совсем, полагает Юдин: «Рациональная публичная сфера не возникнет сама собой, необходимо принуждение к диалогу». А диалог ведут только с тем, за кем стоит достаточная сила. В текущем кейсе с грядущими выборами в Мосгордуму мэрия, внедрив запретительный барьер в виде сбора подписей, «оказала себе дурную услугу», считает эксперт: «Если бы они сказали: приведите 15 человек, можно было бы этих людей спокойно развернуть и сказать: кто вы такие? Теперь за каждым из этих людей — несколько тысяч подписей, собранных в очень тяжелых условиях. Это сила». И, наконец, ничего не получится без реабилитации «публичной политики, со всей ее рациональностью, со всем ее популизмом, со всей ее неприглядностью, со всей ее иррациональностью». «Только так можно вернуть в политическое участие массы, которые чувствуют себя изолированными. И только так есть шанс заставить себя слушать и начать разговор о нашем общем будущем», — заключил Григорий Юдин.
«Публичное пространство в России превратилось в набор расширенных приватных пространств»
Максим Горюнов и Александр Шмелев: Öffentlichkeit: я и другой
У Советского Союза была мощная армия, мощная пропаганда, способная «промыть человеку голову, не оставив там ничего лишнего», но «тем не менее государство развалилась, и на его месте появилось 15 новых стран», говорит Максим Горюнов. Открытая дискуссия в России рано или поздно приведет к тому, что и Россия исчезнет, полагает он: «На этом пространстве появится россыпь государств с общественными отношениями, о которых мы не имеем представления».
Россия — не мононациональная страна, как Финляндия, в нее входят национальные республики, в том числе Крым с крымскими татарами. У республик есть свои конституции, в некоторых работают «вполне вменяемые академии наук». Причем даже «утрата национального языка, как показывает европейская практика, не означает» отказа от притязаний на самоопределение. «У всех есть свой список претензий к Москве — начиная от экономических и заканчивая историческими, — говорит Максим Горюнов. — Если вы откроете татарские медиа, увидите, что они очень красиво дразнят Москву. В Казани есть Кремль. И казанские журналисты, когда хотят подколоть московских коллег, говорят: “в казанском Кремле нам уточнили, что мнение московского Кремля…”».
Публичная дискуссия в России блокируется или сводится к разговору «о табуретках в парках», но это «единственный способ удержать Россию в ее нынешнем состоянии», полагает Горюнов.
Когда в течение двадцати лет у власти «Единая Россия», альтернативой ей является неединая Россия, продолжил Александр Шмелев: «Но мне все-таки кажется, что это не такой сильный аргумент, чтобы ставить заслон публичной дискуссии». По его словам, чем больше публичное пространство и пространство для общественной дискуссии уменьшается, тем больше накапливается претензий к федеральному центру», но едва ли эти претензии всегда носят национальный характер. «У меня как у москвича, например, есть свои претензии к Москве как федеральному центру»,— возразил Шмелев.
Главный враг публичного пространства — тоталитарное государство, подчеркнул Шмелев. Однако не только оно. Не меньшим врагом является увлечение манипулятивными технологиями, «пиаром». Для примера можно посмотреть, как происходило сворачивание публичного пространства в постсоветской России в трех сферах. Во-первых, в политике произошел переход от конкурентных выборов к политтехнологиям. «В 1989-1990 годах еще никто не понимал, что такое избирательные технологии. Выборы в Верховный совет были максимально приближены к понятиюres publica — «общему делу»: кандидаты писали на бумажке, за что они выступают, распространяли в виде листовок, а избиратели на своего рода «агоре» принимали решение, за кого будут голосовать»,— рассказывает Александр Шмелев. Но уже в 1993-1995 годах на выборах стали появляться пиар-технологии, и в итоге процесс свелся к тому, чтобы обеспечивать победу конкретному человеку. Во-вторых, манипулятивными технологиями были убиты независимые средства массовой информации. Рубежным стал 1996 год со знаменитой президентской кампанией, а битва за «Связьинвест» 1997 года закрепила результат. И, наконец, в-третьих, интернет. «Я хорошо помню, какие были дискуссии в интернете в первой половине 2000-х годов: в ЖЖ можно было опубликовать свое мнение и дальше в течение месяца вести подробную взаимоуважительную дискуссию со всеми желающими»,— вспоминает Шмелев. Но вскоре блогерам стали предлагать публиковать заказные посты, затем появились тролли и боты, отправляющие определенный набор реплик всем тем, кто им не нравится, далее — как реакция на это — система «банов». В результате «публичное пространство стало схлопываться» и превратилось в «набор расширенных приватных пространств». Современная блогосфера стала тем, чем были советские кухни.
Что делать, как вернуть публичное пространство в наш дискурс? «Во время Майдана 2014 года мне встретился текст, написанный одним из моих друзей: “конечно, очень страшно и идти не хочется, но я не могу не пойти”. И дальше он начинал это обосновывать ссылками на произведения Майн Рида и Джека Лондона… Из Москвы это казалось детско-юношеской наивностью и романтичностью, но этот недолгий всплеск, который произошел в Украине, позволил там достаточно многое изменить», — говорит Шмелев. Для публичного пространства необязательно и даже не нужно соответствовать принципу «сперва думай, а потом говори» — тут часто слово опережает мысль. «Но по-другому публичное пространство не работает»,— полагает эксперт.
Юрген Хабермас связывал публичность прежде всего с высказыванием, Ханна Арендт — с поступком, действием. «Я не вижу принципиальной разницы, ведь и высказывание является действием, а поступок — видом высказывания в публичном пространстве,— рассуждает Александр Шмелев. — Вокруг каждого яркого действия возникает собственное публичное пространство. Выходит человек с плакатом — вокруг него начинают собираться такие же люди, и ситуация начинает меняться». По его словам, «это вечная борьба: каток едет и закатывает все в асфальт — через этот асфальт спустя какое-то время неожиданно пробивается трава, следующий каток и эту траву закатывает в асфальт — трава пробивается где-то в другом месте». «На мой взгляд, это единственный способ реконструкции публичного пространства в нашем возлюбленном отечестве, — говорит Шмелев. — Поэтому напоследок могу призвать вас всех: действуйте».
Записала Наталья Корченкова
Что еще почитать:
Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. — М.: 1909.
Алданов М. Сперанский и декабристы. — 1925.
Гордин Я. Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года. — Л.: «Лениздат», 1989.
Коткин С. Предотвращенный Армагеддон. — М.: «Новое литературное обозрение», 2018.
Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни — М.: «Ad Marginem», 2017