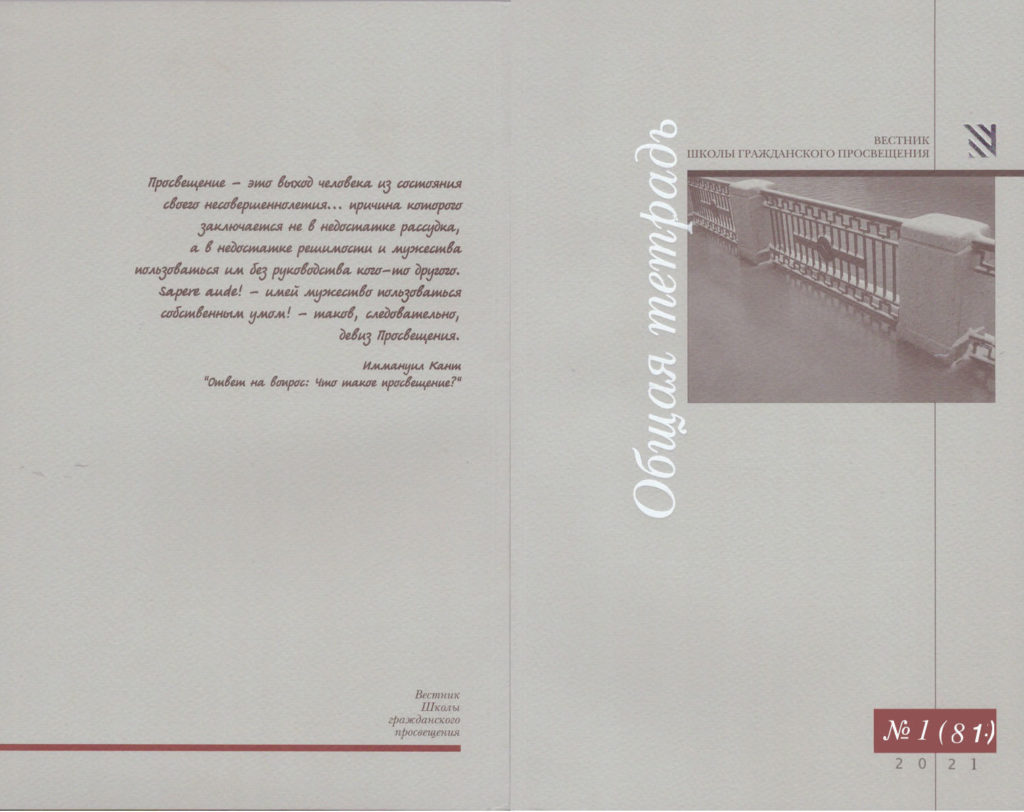Онлайн-беседа с редактором отдела «Комментарии» газеты «Ведомости» Максимом Трудолюбовым на тему «Два Града: чем схожи Россия и США» проходила 16 и 23 августа 2015 года в рамках программы i-forum-2015. Ведущие: Александр и Светлана Шмелевы. Стенограмма беседы расшифрована постоянным участником программ Школы Мариной Потехиной (Санкт-Петербург).
Часть 1
Светлана Шмелева: Здравствуйте. Мы начинаем очередную сессию on-line Форума гражданского диалога. И сегодня мы встретились в одном из кафе в Москве с Максимом Трудолюбовым, нашим постоянным экспертом и большим другом Школы. Кроме того, Максим является редактором отдела комментариев газеты «Ведомости», которую, я надеюсь, вы все читаете. И особенно, раздел комментариев, который, на мой взгляд, может вызывать только восхищение. Максим, спасибо большое, что поддерживаешь нашу площадку. И я передаю тебе слово. Мы договаривались говорить сегодня о темах, которые звучат в мире.
Максим Трудолюбов: Насколько я понял вопросы, которые возникли, речь идет о том, чем живет общество там, где нас нет. Так получилось, что я провел некоторое время в США, и про Америку, наверное, знаю больше, чем про какие-то другие части света. По крайней мере, в том, что касается того, что обсуждают люди. На самом деле, главное – это то, что они обсуждают ровно то же, что обсуждают и здесь. Просто, то, что бросается в глаза, когда задумываешься невольно о разнице – это то, что в медиа отражаются другие вещи. То есть, в российских медиа отражается не совсем то, о чем обычно говорят люди. В то время как в американских медиа отражается как раз более-менее то, о чем они говорят. Они говорят о самых обычных вещах, включая чистоту улиц, пробки на дорогах, школы, затраты на лечение, на лекарства, — в Америке это очень актуальные вопросы. И этим, прежде всего, и занимается медиа. То есть, СМИ в очень маленькой степени интересуются миром и международной жизнью. А здесь, наоборот, СМИ наполнены всякой международной тематикой. Это прямо бросается в глаза.
Светлана Шмелева: Спасибо. Если мы говорим о международной тематике, а как она освещается в Америке?
Максим Трудолюбов: Ну, если честно, то в минимальной степени. Она возникает в СМИ в тех случаях, когда становится политическим фактором. Сразу нужно оговориться, идеализировать какие-либо СМИ, в том числе, американские, совершенно бесполезно. Там это просто более естественная и менее управляется среда, чем здесь. Но от этого она не становится более образцовой. Просто очень много журналистов, разных СМИ, которые следуют логике новостного цикла, различных интересов и того, что сейчас происходит. Например, сейчас в Америке начинается подготовка к выборному сезону. Соответственно, как только в обсуждении между кандидатами или теми, кто их критикует или одобряет, возникает какая-либо международная тема, то соответственно, она появляется в СМИ. Но это не Россия, например. Это, прежде всего, ближайшая к Америке заграница в виде, в основном, Латинской Америки (в связи с миграцией) и Ближний Восток (в связи с тем, что Америка там активно присутствует). И Америку очень много критикуют, в том числе, и в ней самой за то, что она туда влезла. И все, что связано, например, с Исламским Государством, деятельность которого запрещена на территории РФ, — все это тоже очень горячо обсуждается. Но исключительно в тех небольших контекстах, которые связаны с политикой в принципе. Люди заняты тем, что касается их непосредственного здоровья, обучения, быта, качества города.
Александр Шмелев: Я понимаю, что мы бьем в то место, про которое уже два раза было сказано, но, поскольку большинство наших слушателей из России, естественно, у них все время вопрос про то, насколько обсуждается именно Россия. Понятно, что она обсуждается очень немного. Но есть ли ощущение, что она стала обсуждаться больше в последние полтора года с начала украинских событий?
Максим Трудолюбов: В принципе, то, как освещается Россия – это хороший пример, на котором видны дефекты западной медийной индустрии. Потому что люди быстро хватаются за то, что легко. А легко – это образ Владимира Путина, который очень медийный и яркий, и он давно превратился в такого антигероя. По поводу него там шутки, ужасы, странные истории. Если про Россию что-то может быть интересно и популярно – это какая-нибудь история про Путина. То есть, добиться того, чтобы объяснить что-то по существу про Россию, в принципе, довольно трудно. Но опять же, мы говорим про массовую аудиторию.
Надо сказать отдельно, что существует огромное экспертное сообщество в США, в том числе, какая-то его часть занята Россией. И то, как они это делают, в значительной части, это очень качественный продукт, что меня самого удивило. Я очень много читал и видел всяких так называемых экспертных продуктов в виде докладов, статей, книг, большую часть которых нельзя отбросить и сказать, что это ерунда, или что люди что-то не знают, или у них какая-то политическая подоплека. Интересно, что политическая подоплека начинается как раз потом. То есть, экспертное знание существует на очень хорошем уровне. Потом, в политическом процессе, как это используется — это уже другой вопрос. Но тут другая логика. Мне кажется, в качественных СМИ бывает неплохо и довольно четко поданы какие-то темы по России, в экспертном знании существуют довольно качественные материалы по России. Но выходя на политический уровень, это знание как бы стирается, растворяется в политической логике, которая требует отвечать на запросы избирателей. Тут можно по-разному это все объяснять. Какой-нибудь условный кандидат или действующий конгрессмен должен ориентироваться на избирателей, то есть, он может говорить о России только определенным образом. Потому что известны те группы населения и известно, как они думают про Россию. И очень многие из них – это меньшинства (украинские, прибалтийские, польские). То есть, если мы говорим про те меньшинства в Америке, которые вообще что-то знают про Россию – то это те, которые знают про нее все плохое. Это научный факт. Этим отчасти объясняется специфический уклон американских СМИ в адрес России. Это некое отражение. Это не то, что журналисты сидят специально придумывают, что бы плохого написать. Это сочетание факторов, которые состоят из того, что Путин – интересный медийный персонаж, и он вызывает в контексте западных СМИ, надо признать, ироничную реакцию. Это реальные факторы на счет того, что существуют избиратели, для которых Россия – это некоторый негативный фактор, как они считают.
И я думаю, причина в том, что в Америке вообще не существует никакого консолидированного российского интереса. Несмотря на довольно большое русскоязычное присутствие в США, этот интерес никак не оформлен: нет диаспоры, нет какого-то мощного лобби, которое чего-нибудь бы постоянно добивалось. Есть лобби, которые постоянно чего-то добиваются, но это, как правило, представители небольших групп (польские, армянские, украинские). Российской (или русской) группы там нет.
И, чтобы закончить с этим, я хочу сказать, что ни один из этих факторов я бы не делал каким-то основным. Это действует все вместе. Я думаю, что в России нам нужно по этому поводу как-то очень сильно успокоиться.
Светлана Шмелева: Максим, возвращаясь к таким бытовым темам, я хотела спросить, скажем, о газете «Ведомости». Как часто она сама обращается к таким тематикам. Так как я с уважением отношусь к «Ведомостям», я хочу сказать, что понимаю, что эта газета, прежде всего, имеет цель быть средством массовой информации. Насколько там включены эти бытовые темы? Есть ли вообще спрос? Как ты видишь русскоязычную часть аудитории на какие-то конкретные тематики (медицина, например)?
Максим Трудолюбов: Я думаю, что спрос, конечно, есть. По «Ведомостям» немного трудно судить, потому что у нас не очень массовая аудитория. Она не маленькая, но она при этом и не массовая. И она в основном состоит из людей, которые имеют отношение к политике, бизнесу; то есть, люди, которые что-то уже понимают. Для них, безусловно, важны политические вопросы, направление развития; но это не вопросы, непосредственно связанные с потребителем. Мне кажется, для более массовых изданий, особенно для телеканалов это по идее, должно быть интересно. Но в силу каких-то обстоятельств, в России сложилась довольно интересная обстановка, когда мы получаем по очень массовым СМИ программы, практически целиком состоящие из иностранных сюжетов, или сюжетов, связанных с Россией косвенно. Или же сюжетов, в которых Россия играет некую роль, но одну из ролей. Например, сюжет (когда некоторое время назад активно обсуждались вопросы с футболом) про Международную футбольную ассоциацию и ее президента. И там Россия играла роль такого белого рыцаря, который идет и спасает благородного Йозефа Блаттера, которого заклевали заокеанские враги, которые хотят его сместить и поставить на его место кого-то другого. И этому посвящается гигантский сюжет на 15 минут, который построен как документальное кино с какими-то событиями. И это не имеет отношения по большому счету вообще ни к кому, да и не особо там что-то правда, если честно сказать. Но людям почему-то это интересно. Я уже не говорю про Украину. Но есть сюжеты, которые не касаются и Украины. Это, например, сюжет про Грецию или Францию, где что-то происходит, где что-то у кого-то болит, и это вероятно как-то связано с той логикой, которая была еще в СССР, когда нужно было показывать, как у них все плохо.
Но я думаю, что сейчас это все намного сложнее. То есть, тут задача показать, что вообще мир – это такое место, где Россия – это такой мировой деятель, как некая единая персона. И это мировой герой, который сражается за обездоленных; за тех, кто страдает; и главным образом, сражается за тех, кого преследуют из Вашингтона. А Вашингтон – это другой герой, только очень плохой, и он преследует тех, кого защищает Россия. И это, в принципе, очень увлекательная драма. Ее можно разыгрывать бесконечно. Совершенно за кадром остается то, что происходит внутри самой России и, мне кажется, в принципе, это сделано очень удачно, потому что смотреть все это довольно интересно. То есть, в отличие от советского телевидения, которое было скучное, сегодняшнее телевидение довольно безумное, но не скучное. И в нем отсутствует внутренняя повестка дня. Более того, мне кажется, людям, вообще говоря, это даже нравится. Потому что, а вот какой интерес, в сто пятидесятый раз обсуждать дороги? Ну, дообсуждались уже, а что-то изменилось?
Светлана Шмелева: Скепсис по поводу разделения людей слова и дела – это такая частая история, начинающаяся как раз с советского времени. Но я бы все-таки хотела продолжить тот же вопрос, но в контексте даже экспертного сообщества. Обсуждение дорог или медицины — чего-то, что имеет отношение непосредственно к нашей жизни и может затрагивать более широкий круг людей. Мы две недели назад были в переписке с нашими слушателями о том, какие темы их волнуют. И мы встречали много отзывов, в которых они говорили о том, что сейчас не хватает площадки, которая бы предлагала способы решения проблем. В этом смысле, я не знаю, может ли такой площадкой стать средство массовой информации. Ее ли это роль, чтобы эксперты, например, говорили не столько о навязанной повестке дня (хотя на нее, конечно, нужно реагировать и нужно давать понять отношение к этой повестке), но и делать какую-то свою повестку. То есть, констатировать не только то, что дорога плохая, но, например, показывать людям, что проблема решаема, что нет в этом какого-то тупика.
Максим Трудолюбов: Да, СМИ, безусловно, могут быть такой площадкой, более того, они ею являются. «Ведомости», например, последние два месяца публикует серию статей о состоянии системы здравоохранения и ее финансировании в России. Много ли людей включились в эту дискуссию, не знаю. Я всем эти публикации рекомендую, они шли по средам. Все самые существенные на сегодняшний момент, эксперты по здравоохранению, уже высказались. Это небольшие тексты, но они для желающих представляют некую пищу для ума. Понятно, что это не может вызвать массовый интерес. Это нигде не вызывает массового интереса. Вопрос в том, что мне кажется, что у нас сейчас сложилась такая ситуация, когда это не вопрос того, что какое-то СМИ не хочет заниматься вопросами здравоохранения, образования, развития армии или развития городов. Занимаются, и очень много кто. Вопрос в том, что интерес к этим вещам довольно слабый. Особенно на фоне того, что массовые СМИ дают людям опять-таки такую драму, которая просто настолько увлекательна и поразительна, в которой Россия является неким вселенским героем, который сражается с драконом, что на этом фоне обсуждать здравоохранение – это страшно скучно, потому что здравоохранение – это тяжелая, сложная, мучительная сфера, в которой легко ничего нельзя изменить; в которой нужно много денег, времени, помимо ума и желания. То есть, это просто все очень тяжело. А существуют темы, которые легко. Сражаться с фашизмом, особенно находясь дома в удобном кресле – вообще отлично, по сравнению с тем, чтобы думать о чем-то более серьезном. Но, главное, что особенных стимулов к этому нет. То есть, я бы не стал говорить, что СМИ чего-то не хотят. СМИ как раз, очень даже хотят, и они всегда откликаются. Вопрос в том, что у нас такая управляемая повестка дня, и настолько хорошо управляемая, что мы получаем такой перекос в сознании. Мне кажется, уже у людей в сознании сложился перекос в сторону такой вот войны миров.
Александр Шмелев: Еще хотелось бы спросить про те внутренние темы, которые обсуждаются в западном мире, в первую очередь, в США. Точно ли они соответствуют тем темам, которые могли бы обсуждаться в России про внутреннюю политику? Например, я какое-то время назад слышал, что один из главных критериев, по которому на Западе оценивают сейчас успех правления той или иной политической силы – это выросла или снизилась средняя продолжительность жизни в стране. Что это является очень важным критерием. Или, если говорить об охране здоровья, могут быть какие-то еще темы: например, генная инженерия – насколько это этично. Или когда-то обсуждалось клонирование человека. Или, если говорить о других темах, в 2009 году, только став президентом, Обама объявил о том, что каждый человек в интернете может написать ему пожелание, что бы он хотел от нового президента. Первый такой эксперимент – прообраз всех будущих петиций. И какое-то время продолжалось это голосование, в итоге на первом месте, с большим отрывом был вопрос о легализации марихуаны, который победил. И в некотором смысле, получается, что Обама отвечает на запрос избирателей, потому что эта легализация сейчас происходит. Или совсем недавно Верховный суд США легализовал гей-браки по всей стране, и это тоже было очень важной новостью. Все-таки набор этих внутренних тем точно ли соответствует российскому? А если отличается, то в какой степени? Какие темы, которые там обсуждаются, у нас совсем еще далеки от того, чтобы выйти на первый план?
Максим Трудолюбов: Медицинское использование наркотических средств в России по закону запрещено даже обсуждать. Я даже не знаю, можем ли мы это здесь обсуждать. Но в США тема легализации легких наркотиков – это тема, которая на уровне общественного обсуждения звучит последние лет сорок, как минимум. Возникла она на волне литературы, кино, общественного интереса. И спустя сорок лет (если не больше) это пришло к политическому результату. Сейчас примерно в половине штатов легкие наркотические средства (в основном, речь идет про марихуану) в той или иной мере легализованы.
Естественно, очень много обсуждается развитие технологий, и как они будут влиять на жизнь, быт, государственные услуги (машины без водителя, беспилотные аппараты в различных сферах жизни вплоть до военной, которые меняют характер ведения боевых действий). Обсуждаются какие-то совсем странные вещи типа того, что сфера социальных сетей и интернет развивается в сторону все большего количества данных, которые становятся доступны частному бизнесу. Это вызывает огромный спор. Мы спорим о государстве, а в Америке очень многие спорят как раз не о государстве, а о том, что могут или не могут большие корпорации. В частности, те, которые по факту оказывают очень значительное влияние на интернет – Google, Facebook, компании, которые разрабатывают приложения (уже в меньшей степени). Эти корпорации, чем дальше, тем больше обладают гигантскими массивами данных буквально обо всем, что делают люди: что они едят, куда они ходят, что они покупают, какие они предметы используют. Сейчас очень сильно развиваются технологии, связанные со здравоохранением, в основном, с профилактикой, когда люди бегают, обвешанные разными датчиками, и опять же нарабатываются огромные массивы данных по тому, как ведет себя человеческое тело, соответственно, это можно использовать. Происходит такая сделка, которую общество заключает с этими гигантскими корпорациями в том, что мы получаем бесплатный ресурс (сети, которыми мы пользуемся, электронная почта), но зато мы отдаем данные о себе. А они это используют для рекламы. Но можно использовать это дальше, чтобы представлять какие-то услуги, связанные с тем же здравоохранением. То есть, со временем можно представить себе, что социальные сети будут предоставлять некие бесплатные услуги, даже связанные со здравоохранением, то есть, со временем, они могут вытеснять социальные государства. Насколько это благо, это вообще очень большой вопрос. Потому что мы имеем дело с гигантским бизнесом, который ничего не делает просто так. Google и Facebook потому такие мощные, что они зарабатывают очень много денег. Они нашли какое-то удивительное сочетание бесплатности для пользователя и прихода доходов для себя, который строится как раз на том, что мы даем им бесплатно. Причем, мы здесь в России их особо не интересуем. Мы на самом деле, получаем некоторый бонус: просто можем пользоваться. Их интересует огромное большинство пользователей, во-первых, в самой Америке, во-вторых, в англоязычном мире и там, где сети распространены гораздо больше, чем здесь. Эти темы, я думаю, особенно увлекают: то, что связано со столкновением технологий и политики, технологии и общественного развития.
Александр Шмелев: Сейчас ты очень много говорил про защиту данных. Если судить по российским СМИ, в Штатах были громкие дела, связанные с такими фамилиями как Ассандж и Сноуден. Якобы, люди там как-то очень занервничали, что правительство их слушает и все их данные читает. Как в реальности? Насколько эта тема важна? Насколько у людей есть внутренний протест, что государство все контролирует, прослушивает, и вообще использует борьбу с терроризмом для нарушения их права на личную жизнь?
Максим Трудолюбов: Это, безусловно, есть. Меня даже удивило, что в США это не очень громко звучало. Насколько я понял от коллег и знакомых, это действительно была большая проблема для правительства (в основном PR проблема), плюс это проблема для самих этих спецслужб, потому что им пришлось тратить большие деньги, что-то там менять. Но общественный резонанс не был гигантским. Америка просто очень диверсифицирована в общественном смысле. То есть, людей интересуют очень разные вещи. Безусловно, есть большое количество людей, которые ненавидят государство, причем по разным причинам. Есть те, кто ненавидят его, потому что государство недостаточно всем помогает. Есть те, кто ненавидят, потому что они хотят, чтобы у них было право носить оружие. Есть и по религиозным причинам. У каждого из этих направлений есть ниша. И они занимают какие-то гигантские СМИ, движения. Это люди, которые вовлечены, которые ходят на демонстрации, они постоянно участвуют в какой-то деятельности, и их очень много. Поэтому нельзя сказать, что что-то занимает людей больше. Мы в этом смысле более понятный материал для изучения, потому что у нас всегда есть какое-то одно направление, которое всех занимает. Все хотят что-то понять про государство, про Кремль. И все его изучают, одни его любят, а другие не любят. В Америке это гораздо более диверсифицировано. Скажем, в европейских разных сообществах как раз эти вопросы персональных данных гораздо более острые. И люди гораздо больше воспринимают это близко к сердцу, ненавидят все эти facebook и google. И естественно, ненавидят американские государственные спецслужбы, которые их прослушивают. И как раз для европейских стран это более живая тема, поскольку в принципе, сюда еще подключается антиамериканизм. Во многих обществах в Европе по разным причинам долго формировались разные чувства (ревность, обида, недовольство) и конкурентные соображения по отношению к США. И это накладывается на новости про АНБ (Агентство национальной безопасности), которое отвечает за прослушивание. В нем персонифицируется все это зло. И в Европе это гораздо больше, мне кажется, даже гораздо больше чем здесь. По идее, здесь в России это можно было бы разыграть гораздо мощнее. Почему-то у нас ненависть к США идет на материале цветных революций, в которых США участвует минимально. Я понимаю, что я говорю какую-то ересь, но на самом деле, американцам не нужны революции, они их не любят. То есть, политически, это не нужно там вообще никому. Но эта тема с данными, мне кажется, в России не раскрыта до сих пор.
Светлана Шмелева: Я хотела спросить про традицию и новшества. Просто у нас очень часто в последнее время поднимается тема традиционного общества, которое как бы противопоставляется каким-то новшествам, которые происходят в мире. И в то же время, я вижу Америку, которая несколько веков существует с одной Конституцией, с двумя партиями – какое-то очень традиционное и религиозное сообщество. И в то же время там происходит легализация страшных грехов (для религиозных людей). Как в Америке обсуждаются эти темы легализации, как они находят для себя аргументы за нее?
Александр Шмелев: и маленький под-вопрос: что было бы в Америке с двумя случаями: первый – Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, второй – Дмитрий Энтео в Манеже. Можно ли представить там такие ситуации, и как бы реагировало общество?
Максим Трудолюбов: В Америке законодательство настроено так, чтобы предотвращать и бороться с религиозно мотивированными погромами. Потому что изначально эта страна, которую строили религиозные диссиденты, многие из которых страшно нетерпимые люди. То есть, это люди, которые чувствовали себя изгоями в Европе, и приехали в Америку и начали строить там свои сообщества точно с такой же нетерпимостью к другим. Но поскольку они были разные, и их было много, им просто пришлось со временем заниматься тем, чтобы как-то урегулировать отношения между собой. Кроме того, очень важно, что отцы американской государственности были людьми религиозными, но не конфессиональными. То есть, многие из них масоны, многие из них – люди с очень общей религиозностью, которые не относились ни к одной четкой ветви христианства. То есть, они формировали государство, исходя из очень рационалистических, очень модных в то время идей Просвещения (конец XVIII века). Как раз на тот момент накоплено огромное количество интеллектуального материала, но, в основном, пока еще ничего физически не было создано. Но очень много уже было написано, продумано. И того, что потом со временем стало считаться более левым, и того, что стало считать более правым, условно там со стороны Вольтера, и со стороны, допустим, англичан, со стороны Локка, философия права. И мы получили такую очень рационалистическую конструкцию, которую создали отцы американской Конституции. Все это было заранее заложено. Соответственно, у американского сообщества большой опыт.
Естественно, можно себе представить, что какие-то эксцессы происходят, но у них такой большой опыт взаимодействия с этими вещами, это настолько глубоко в правовой культуре, что они просто не будут этого делать. Они очень хорошо знают пределы. Они знают, где им можно и как им можно, чтобы не входить в конфликт с другими сообществами. Хотя это периодически выплескивается, но в основном, это все через суд решается. Эти вещи общество научилось давно решать. Наше общество, мне кажется, только учится. У нас может быть общество хорошо умеет что-то другое, но разрешать такие темы не умеет.
Ты, Света, говоришь, что там сочетание традиционности и неких модернизационных вещей. Я думаю, что это связано с тем, что действительно есть большие традиции религиозности, которые, опять же, связаны с тем, что общество изначально состоит из религиозных групп. Но с другой стороны, общественная ткань развивалась в таком правовом русле и в русле большой терпимости к тому, что люди организуются и что-то делают сами. Соответственно, есть в целом культуры, которые готовы принимать общественные движения. И, насколько я понимаю, то, что произошло с гей культурой – это как раз результат общественных движений. Опять же, это все существует на уровне гражданского общества десятилетиями. То есть, это с 60-х годов, когда эта культура выплеснулась на поверхность, начались конфликты, столкновения с полицией, обсуждения в обществе, гигантское осуждение, абсолютное неприятие. Нетолерантность к гей культуре в Америке присутствовала в большей степени, чем в Европе. Но, благодаря тому, что это общество, которое готово принимать общественные движения, как некую реальность, а не как чей-то инструмент, отсюда возникает, что со временем это становится приемлемым. Должны работать какие-то механизмы, условно говоря, «спирали молчания». Еще 15 лет назад защищать гей культуру, тем более браки, пожалуй, было не особо приемлемо. На общественном уровне – нормально, на политическом – точно нет. А сейчас это принятая норма. Это изменение нормы, которое происходит прямо на глазах. И оно происходит в силу некоего общественного механизма. Все больше людей, осознает фактическую сторону вопроса, и это приводит к тому, что это становится приемлемо и политически.
Александр Шмелев: Вот в продолжение этого, на самом деле, хотел бы задать очень важный для понимания вопрос. Он касается того, что у нас называют оскорблением чувств или разжиганием ненависти, а в Америке называют термином hate speech. С одной, стороны hate speech там жестко карается в отношении самых разных групп, и вообще именно Америка воспринимается всюду как флагман политкорректности. С другой стороны, там же выходят на телеканалах какие-нибудь мультсериалы типа South Park, где в крайней жесткой манере смеются над всеми: над евреями, геями, чернокожими, людьми с ограниченными возможностями, женщинами. Абсолютно неполиткорректный юмор, и такие шутки, которые немыслимо себе представить, может быть, даже в нашем интернете. Как это может сочетаться? Как им удается разделять политкорректность в публичных выступлениях и абсолютно спокойное отношение к жесткому юмору.
Максим Трудолюбов: Это очень хороший вопрос. Я сам бы хотел это понимать. Но мне кажется, они умеют разделять культуру мейнстрима, культуру общепринятую, которая является некоторой средой, в которой мы все живем от театральной культуры, от искусства и самовыражения. Вот есть самовыражение, которое может быть разное: ты пишешь роман, поэму, ты создаешь фильм, сериал, комедию. «Южный парк» — это на самом деле ситком, комедия ситуаций, просто сделанный в форме мультфильма. В Америке этот жанр очень популярный, все постоянно смотрят, хотя большая часть этого непонятна и не смешная. Но есть такие очень смешные проявления, восходящие на определенный уровень искусства, как «Южный парк», который можно считать невероятно качественным, смешным, хотя и ужасно неприличным зрелищем.
Просто это регулируется законами, которые говорят, что самовыражение разрешено, в том числе, существует первая поправка. Но при этом есть среда, в которой это существует. Этот «Южный парк» существует в среде, в которой нормальные люди ходят по дороге, смотрят телевизор и так далее. И в этой нормальной среде ты должен как бы соблюдать вежливость. И тут же вопрос в том, что нет никакой полиции, которая придет и скажет тебе, что ты ругаешься по телевизору. Сейчас, когда началась выборная компания, там есть такой Дональд Трамп, который выступает как раз против политкорректности. Но никакой полицейский не может прийти и побить Трампа по голове дубинкой и вывести его, потому что его эксцессы охраняются законом. А то, что надо соблюдать, регулируется не законом, а общественной нормой. А общественная норма сейчас стала такая. Я думаю, вот это очень сложно, наверное, объяснить, но законом охраняется как раз эксцесс (право нарушить). Если оно в меру закона укладывается, значит все в порядке. Но это не значит, что ты можешь идти на улицу и ругаться, тогда общество будет тебя отторгать. Есть специально отведенное место – «Южный парк», он сам себе это место отвел, он всем доказал, что он в этом хорош. Но если ты будешь на улице так делать, в школе так делать, общество будет тебя отторгать.
Александр Шмелев: Отторгать будет общество? Не будет заведено уголовное дело, если что-то такое делать?
Максим Трудолюбов: Опять же, если это попадает под закон, то да, безусловно. Главную роль отслеживания приведения всех в соответствии с нормой играет само общество, а не полиция. Что приемлемо, а что не приемлемо, ты как бы понимаешь из воздуха. Если ты не миллиардер, то ты, скорее всего, не будешь так шутить, потому что ты потом не поступишь в университет, не сможешь получить такую-то работу. Причем, западные философы, начиная с Мишеля Фуко, это страшно критиковали. Они говорили, что это полицейское общество, которое следит за тобой, не дает тебе нормально жить и быть свободным человеком. Фактическая реальность жизни состоит в том, что среда следит за тем, как люди себя проявляют. А законы следят за крайностями.
В Америке есть одна очень важная тема, которую обсуждают — это быть империей или быть нацией. Вот у нас все обсуждают, что мы доказали, что империя, захватив Крым. Америка в той же самой ситуации, даже гораздо хуже, потому что огромное количество американцев ненавидит то, что Америка ведет войну, Бог знает где, особенно потому, что через прессу очень хорошо известно, сколько это все стоит. И когда ты понимаешь, сколько денег идет на это, и когда ты понимаешь, что очередные бабушки умирают, не получив медицинской помощи в Америке, это все гораздо острее, чем здесь. И вот эта дилемма между империей (которая где-то на Ближнем Востоке ведет какую-то войну) и нормальной страной, то есть нацией (которая занимается своими бабушками, своими школами, своими дорогами и так далее). И в России то же самое. Дилемма между тем, хочешь ли ты быть державой, которую все боятся, или ты хочешь быть страной, которая занимается своими бабушками, своими школами и своими дорогами. И этим очень похожи и США и Россия.
Светлана Шмелева: Спасибо. Здесь есть над чем задуматься. Спасибо большое, Максим.
Часть 2
Светлана Шмелева: Здравствуйте. Мы продолжаем online форум гражданского диалога Школы гражданского просвещения. И в частности продолжаем разговор с Максимом Трудолюбовым, редактором отдела комментарии газеты «Ведомости», с которым в прошлое воскресенье мы начали разговор о дискурсе в США, где Максим пробыл последний год. И на самом деле, подобрались к очень интересной теме. Мы начали разговор с того, обсуждается ли вообще Россия в Америке, и как она обсуждается, а подошли к обсуждению американцами собственно Америки. И в частности, хотят ли они быть такой империей, которая занимается в большей мере внешней политикой, или все-таки хотят сконцентрироваться на своих внутренних проблемах, которые там тоже есть, и которые обсуждаются как раз гораздо шире, чем внешний мир. И я благодарю Максима за то, что он длит этот диалог с нами, и передаю ему слово.
Максим Трудолюбов: Спасибо, Светлана. Я собственно хотел начать разговор с того, что меня поразило в США. Это то, что это общество похоже на российское. Но похоже очень своеобразным образом. То есть, мы схожи до противоположностей, или мы противоположны до схожести. Эта мысль периодически приходила в голову разным людям в разных ситуациях. Русско-американский социолог Питирим Сорокин написал целую книгу «Россия и США», где пытался показать, что эти общества похожи. Он делал это после войны, когда осознал, что Россия и США окажутся по разные стороны «Железного занавеса», и это его очень расстраивало. Видимо, он искренне надеялся, что после ВМВ США и Россия продолжат оставаться союзниками. Некоторые вещи натянуты, но если коротко суммировать, то он говорит о том, что это похожего типа империи: они материковые, они развивались вдали от других центров цивилизации, они развивались скорее постепенным освоением территорий (причем захватом каких-то отдаленных земель на других континентах). И в силу такого экстенсивного развития какие-то общие черты он находит в обществах и в том, как люди живут, как они чувствуют. Когда он пишет в конце 40-х годов, он указывает на то, что Россия и США практически никогда не были противниками, то есть это были страны, либо никак не связанные между собой, либо находились в отдаленно союзнических отношениях. И в начале ХХ века Александр Блок писал о русской Америке в связи со своей поэмой «Возмездие», где говорил, что он чувствует какую-то близость (насколько я понимаю то место в его записках), что Россия движется и развивается в направлении, становясь чем-то похожей на Америку. В общем, действительно, государственные системы очень разные. Но в том, что эти две страны развивались как бы на двух берегах, по разные стороны центра европейских культур – это что-то сообщило нам общее. В процессе XIX века Россия осваивала свой восток, Америка – свой запад, примерно одновременно появлялись новые города, возникали новые культурные центры, развивалась армия. Экономисты, которые смотрели на долгосрочную картину развития российской экономики, говорят, что наш ВВП на душу населения исторически уже больше ста лет примерно 1/3 от американского. Он колеблется, но он постоянно возвращается на этот уровень. Эта некая такая грустная мысль, которая говорит о том, что даже рывок индустриализации 30-х годов на самом деле не был рывком. Это было возвращение к длительному тренду.
И после этой длинной преамбулы я могу сказать, что, действительно, в Америке дискутируют на разных уровнях и достаточно глубоко о том, что Америка должна постепенно выходить из роли «мирового жандарма». Это некая современная империя. Историки, которые изучают империи, Нил Фергюсон, например, который писал об истории Британской империи, говорит, что Америка – это империя, в том смысле, что значительная часть сил, расходов и вложений осуществляется за пределами самой страны. Уже одно это обстоятельство указывает на некоторую необычную природу такой страны. В этом смысле СССР тоже были, конечно, империей, потому что очень много участвовал в различных процессах в других странах.
Россия дальше продвинулась в этой дискуссии, потому что у нас СССР развалился, и почти 25 лет мы являемся тем, что от него осталось. В отличие от наших соседей, которые каждый в меру своих талантов или испорченности движутся куда-то в разных направлениях (кто-то мечтает стать Западом, кто-то мечтает стать продвинутым Востоком), мы остаемся советским наследием. И оно, мне кажется, на каком-то фундаментальном уровне состоит в том, что мы до сих пор думаем: мы империя или нация? И эта дискуссия постоянно идет, но она не проявлена буквально. Это не значит, что мы каждый день об этом говорим. Но один из способов слегка задеть эту тему – это опрос, который проводит каждый год Левада: вы хотите жить в большой стране, которую боятся или в стране, которая, может быть, необязательно самая сильная, но которая заботится о благополучии своих граждан? И люди стабильно на протяжении многих лет распадаются на две почти равные части. Был взлет в пользу нации в 2006 году, когда было больше 60%. Сейчас опять вернулась на уровень ровно пополам. Это, как минимум, говорит о том, что это вопрос нерешенный, и что примерно равные доли населения хотят мыслить себя жителями империи и жителями нации. Под нацией мы имеем ввиду государство, которое занимается, прежде всего, своими вопросами, а не какими-то там чужими. И последние полтора года нашей российской истории – это некий рывок в сторону империи. И не потому, что Россия хочет быть империей (в смысле захватывать земли или еще что-то), а потому что внешняя экспансия и огромный перевес в сторону не внутренних проблем, а внешних, проявляется и в медиа, и в дискуссии. Людям это гораздо интереснее. Чем заниматься своим подъездом и своей территорией, интересно посмотреть телевизор.
И в Америке идет эта дискуссия. Тоже по разному, тоже она проявляется на разных уровнях. И нынешнее американское президентство, которое закончится в следующем году, безусловно, президентство, проходящее под знаком очень осторожных шагов в сторону выхода из имперской роли США. При этом, американские политики, насколько я понимаю, опасаются делать это очень быстро. И Обаму, безусловно, нельзя считать каким-то там слабаком или чересчур пацифистски настроенным человеком. Он такой же американский президент, как и все остальные. Но он представляет тех американцев, которые хотят, чтобы их страна была нацией, прежде всего, и занималась своими вопросами, в частности, тем же здравоохранением, образованием для школ (в Америке скорее проблема школ более острая, чем проблема университетов).
Есть вопросы, которые нас сближают, связанные, например, с полицейским произволом, который для США является очень серьезной проблемой. И вызван он совсем не теми причинами, что у нас. У нас произвол спецслужб и полиции – это системные проблемы, прежде всего связанные с институциональными причинами. И в Америке это, в принципе, тоже связано с устройством системы, с тем, как там разделены городские границы, сколько полицейских, какие правила, какие законы, как они реагируют на поведение людей, какая история межрасовых отношений в США (где полицейские рутинно предполагают, что источником потенциальных проблем всегда является кто-то не белый, поэтому им всегда достается). И в таких местах, где не хватает полицейских, и они знают, что их мало, и они не справляются, иногда доходит до эксцессов (как в Сент-Луисе). У нас по другим причинам.
То есть, это все вместе говорит о том, что мы – два осколка чего-то одного, или две ветви от одного общего корня. Хотя я знаю, что очень многим не нравится такое сравнение, но мне все-таки кажется, что они именно ветви. Потому что, еще одна важная вещь, которая нас сближает – это время создания американского государства (это XVIII век, на волне Просвещения), современная Россия по сути своей, Петербургская Россия тоже сложилась в XVIII веке, правление Екатерины, отмена телесных наказаний, введение для дворянства права собственности – это глубокие, на самом деле, изменения, которые привели к появлению современной России. В том числе, и эти меры создали интегрированную часть населения России. Я думаю, что, все, что разное между нами – это две крайние трактовки некоего общего массива изначальных ценностей, которые связаны с просвещением. Только в силу целого множества причин Россия ушла в сторону социализма, левого понимания общественных отношений, отношения капитала, государственной экономике, и так далее. А американская система ушла в сторону правого, в сторону рынка, недоверия государству и вообще к любому распределению (хотя его в Америке очень много, но, тем не менее, сама идея распределения, тем более, с помощью государства, всегда вызывает инстинктивное отторжение). А мы в этом почти некое зеркальное отражение, у нас существует какое-то врожденное отношение к государству как к чему-то неизбежному, важному, необходимому; это то, что держит нас вместе. Это некие две крайности. Хотя бы поэтому, мне кажется, здесь есть сходство. По сути, ни то общество, ни наше не нашли золотой середины в отношении к каким-то ключевым вопросам бытия (вопросы общественного устройства, роли бизнеса, роли государства). Мне кажется, где-то в этом ключе можно говорить о сходстве, очень отдаленном.
Светлана Шмелева: Я бы хотела спросить про различия как раз. Потому что не могу поспорить с тем, что во многом Россия и Америка схожи, и по своему сложному образованию, и территориальным расположениям (как это ни странно). Но вот то, что мне видится в отношении, как ты говоришь, в отношении государства – это именно про гражданственность и критическое мышление. И в смысле гражданской культуры, мне кажется, это различие есть. Я могу ошибаться, но я знаю, что институты, например, суд, не может работать без гражданского общества. И для этого недостаточно что-то написать в Конституции. Я бы хотела, чтобы ты рассказал про эту часть. Как тебе кажется, как уделяется вообще внимание тому, что такое гражданское просвещение там, как формируется гражданское общество. Как к этому относится государство и общество.
Маским Трудолюбов: Да, американское общество очень любит сообщества. Американцы склонны в силу исторических причин собираться, создавать организации, сообщества, компании для решения каких-то там задач. Это то, что в Америке открыл Де Токвиль, когда он написал свою знаменитую книгу, которая до сих пор является читаемой и цитируемой, в том числе, и в самих США. Он много обращает внимание на то, что американцы – это нация групп, сообществ, объединений граждан. Сами американцы при этом говорят, что все стало гораздо хуже, и это уходит. Когда приезжаешь туда, наоборот, поражает, сколько всего люди делают сами. Но сами американцы говорят, что сейчас все живут отдельно, никто ни с кем не общается и не разговаривает. Но видно, что общественная ткань там совсем другая, общество не так разобщено, как здесь, и действительно, очень много гражданской активности. В частности, и такой, которая спонсируется и самим государством, как ни странно. Естественно, есть очень много частных организаций. Я, например, с удивлением узнал, что очень многие организации, особенно в 60-е годы, финансировались грантами федерального правительства, когда на волне противостоянии с СССР, они сильно упростили режим поступления в ВУЗы, и гораздо больше людей получили высшее образование, особенно техническое. И они шли на такой романтической волне помочь преподавать, работать с бедными. Но интересно, что федеральное правительство спонсировало деятельность НКО внутри страны, которые занимались вопросами бедности, в том числе. Понятно, что гораздо больше по весу – это частный сбор денег, так как это очень развито. На всё всегда собираются бесконечные деньги.
Но самим решать свои проблемы и поставленные вопросы – это очень свойственно американцам. Люди до сих пор чувствуют, что это их земля. Однажды они ее нашли, приехали и осваивают ее до сих пор. Мне кажется, у них есть какое-то эмоциональное чувство, особенно у тех, которые американцы в большом количестве поколений. Они всегда знают, какой конкретно родственник пять поколений назад приехал, какую землю он получил. Есть люди, которые до сих пор владеют где-то фермой. Это может быть небольшая земля, которая больших денег то и не приносит, но это связь со страной, которую они чувствуют. И вот это в американцах очень импонирует. Для меня это было открытием, когда я обнаружил вот такое отношение к стране, что это нечто свое, и мы должны это обиходить, мы должны помогать тем, кто не может сам. И в этом есть кардинальное отличие от российского общества, где по крайней мере изначальной такой установки нет.
Светлана Шмелева: Ты так интересно сказал о нации и империи. Я хочу уточнить для себя: можно ли сказать, что те гражданские институты нивелируют отношения. Ведь такое эмоциональное отношение к стране возникло из нации. А имперство возникло только во Вторую мировую войну. Можно ли сказать, что империя не способствует развитию этой гражданственности?
Максим Трудолюбов: Это очень сложный и большой вопрос. Американское общество очень особенно именно тем, что оно формировалось как колония, но в каком-то очень древнем смысле слова «колония». Как образовывались первые колонии? Когда в городе Коринфе, например, становилось невозможно жить, люди садились на корабль и плыли куда-нибудь и создавали город где-нибудь с другой стороны моря. Это колония в этом смысле, то есть созданная людьми, которые уплыли далеко и создали там свою жизнь. И видимо это заложило определенные установки еще когда-то. Кроме того, принципиально важно, то, что отмечают некоторые историки, и в частности экономисты Джеймс Робинсон и Дарон Аджемоглу – авторы книжки «Почему одни страны бедные, а другие богатые?» (она, кстати, вышла теперь и по-русски, и это одна из существенных книг последних лет, ее можно рекомендовать). Они говорят, что принципиально разные модели институционального развития у Северной Америки (все, что севернее Мексики) и все, что южнее мексиканской границы. Двумя совершенно разными путями шла как раз колонизация. Испанцы (и другие, но в основном, испанцы), поскольку они были первыми и на тот момент самыми активными колонизаторами действовали, создавая верхушку управления на захваченных территориях и заставляя всех остальных работать на себя. То есть, если все упростить, это примерно так: они уничтожали или убивали, сами становились на место бывшей элиты тех обществ, которые они захватывали (индейских) и просто брали на себя роль собирателей. Отсюда их термин – экстрактивные институты, то есть, они добывали из страны все, что можно было из нее получить (поначалу это были драгоценные металлы). И их по сути больше ничего не интересовало. Кроме того, они не могли иметь там собственности, в силу того что это условие испанской экспансии (захватывая территорию, ты не можешь ее владеть, ею владеет Король, а ты можешь ее управлять – то есть, попечение). И прошло 500 лет, но история движется медленно, и заложенные где-то там в самом основании принципы отношения между элитой и всеми остальными – они создали другую общественную ткань. А Северная Америка захватывалась по-другому. Нельзя сказать, что одни были хорошие, а другие – плохие. И те и другие были плохими, потому что это был очень жестокий бесчеловечный процесс, особенно по началу, с огромным числом жертв. Но просто на севере он проходил иначе. И там не было возможности создавать такие «попечения», как у испанцев. Они могли брать землю в собственность. С самого начала, британская корона позволяла закреплять собственность. И это, я думаю, один из многих факторов, который сформировал эту особую связь со страной, которая в Америке чувствуется.
Александр Шмелев: Я хотел бы сказать о том, что, с одной стороны, мне все эти мысли очень близки, потому что в свое время я прожил почти год в США и вернулся оттуда с ощущением, что это очень похоже на Россию по множеству критериев. Начиная от больших, про которые Максим уже сказал, до совсем незначительных, например, огромных просторов, заброшенной земли, отсутствия мелочности, идеи размаха, которая присутствует в России и в Америке. Однако, мне кажется, что принципиальное и существенное различие заключается именно в государственном устройстве, происходящем видимо из-за генезиса самих государств. Да, в России есть огромная территория, где тоже были свои колонисты, и, по сути, происхождение Сибири и Дальнего Востока такое же, как у США. За одним исключением: они не отделились от центра. Россия, по сути, это США плюс оставшаяся маленькая Великобритания, которая продолжает всем управлять. На твой взгляд, возможно ли построение у нас чего-то американоподобного, то есть, все большего вовлечения граждан именно в это представление о том, что надо как-то строить государство снизу-вверх без вертикально ориентированной модели, модели, где Москва все определяет, и все идет из центра. Я не уверен, что у американцев получилось бы то, что у них получилось, если бы все решения продолжали приходить из Лондона, и корона бы продолжала всем управлять.
Максим Трудолюбов: Да, я думаю, ты прав. Схожесть скорее именно во внутренней колонизации, о чем, кстати, есть очень хорошая книжка Александра Эткинда «Внутренняя колонизация». Понятно, что они были колонией Британии, а Россия никогда не была ничьей колонией, мы сами себе колония. И действительно, смысл России, судя по всему, в том, что это централизованное государство, которое создавалось в ответ на вызовы. С одной стороны, это была пространственная экспансия, с другой стороны, это было постоянное ощущение опасности, которое пронизывает русскую историю. Мы не будем сейчас удаляться глубоко, но, в принципе, Московское государство, чьими наследниками мы являемся, формировалось как держава, которая постоянно была в опасности, и которая по этому хочет все и вся мобилизовать. Главное – это всегда во все века продавалось как безопасность, потому что нам угрожают, нас хотят стереть с лица земли. Поэтому мы должны все силы положить на нашу защиту. И поэтому все должно служить государству, которое единственное знает, как обороняться. Отсюда и закрепощение, отсюда и привязывание людей к земле разными способами, отмена собственности (та, которая была при Иване Грозном). Отсюда и желание создать систему, где все обязаны, кто-то военнообязан (благородная часть общества), кто-то трудообязан (рабочие), а церковь должна все это освящать. Поэтому, у нас это наследство есть, и мы, в частности, по этой причине, очень не похожи на Америку. Потому что там эта часть – генезис государства и общественного устройства имел совершенно другую природу. Можно ли из этого выйти – хороший вопрос. Я не знаю на него ответа. Я думаю, что общество может меняться. Это точно. И многие страны показали, что они могут меняться. Мы же не говорим о том, чтобы мы вдруг стали Японией или Австралией, или теми же США. Мы все равно не сможем, Россия останется Россией. Но можно постепенно менять институты, можно учиться какой-то общественной самостоятельности. И опыт показывает, что это возможно. Вероятно, нужна какая-то значительная роль элиты при этом.
Александр Шмелев: Я, если можно, еще уточню и разовью эту мысль. Мне просто кажется, одно из важных отличий – это отсутствие или наличие территориально-управленческой вертикали. Например, типичное свойство всех американских штатов – там везде столица находится в каком-нибудь маленьком-маленьком городе, не особо значимом. И столица всех Соединенных Штатов находится далеко не в самом большом городе. В каждом маленьком графстве жителей будет интересовать новости именно этого графства, и все время там есть идея государства, растущего снизу вверх. А у нас модель, скорее традиционная для Европы, где традиционно есть историческая столица, исторический центр, плюс еще один город, исторически с ним конкурирующий. Возможно ли изменение России в этом смысле? Может быть, тут нужно какое-то изменение и в сознании, и в самой модели управления? Для управления, например, столица выносится в какой-то маленький город, вообще все управление идет снизу вверх. Самое же важное – то, что происходит на твоей земле, в твоем городе.
Максим Трудолюбов: Да, это центральная наша проблема. Это как «курица и яйцо», потому что должен быть спрос снизу, должна быть готовность элиты идти на такие изменения. То есть, в практическом плане, это будет означать какое-то очень фундаментальное изменение в отношении между центром и регионами, в том числе, с самыми такими материальными изменениями (бюджетными, чтобы регионы получали больше свободы в том, что они могут делать у себя, что они могут финансировать). Чтобы в определенных рамках была свобода налогообложения, чтобы налогообложение оставалось в регионе, чтобы роль центра была четко ограничена, и чтобы центр получал какую-то понятную долю налогов, но не такую как сегодня. Но эта такая сложная история, что даже невозможно сейчас пытаться об этом говорить, потому что все регионы очень разные. У нас считанные регионы способны себя кормить, по крайней мере, при нынешнем развитии и при нынешнем состоянии нашей системы. Если на секунду представить, что регионы получат больше налогов, то для них это будет несказанная манна небесная (прежде всего, нефтяные регионы и регионы с большими городами). А у остальных — два советских предприятия, которые поддерживаются искусственно, и сервисный центр, который может весь умереть, если не будет этих советских предприятий, потому что люди должны где-то получать свои деньги, и у них останутся только пенсии. Это очень трудная история. Прореформировать эту вещь – это нужен какой-то настоящий государственный гений, потому что это не просто взять и сказать «Свободу регионам». Это не будет так работать.
Светлана Шмелева: Спасибо. Я думаю, что Максим задал вопрос и разложил карту мира, которую, может быть, мы увидели как-то иначе. Вообще я советую чаще смотреть карты разных государств. Они во многом ломаются о наши привычные представления. И второй момент, на что обратил Максим наше внимание – это вопрос о нации и империи. И, как мы видим, совершенно неоднозначно то, что империя хороша. И в мире могут быть люди, живущие в государстве, которые остерегаются быть империй, потому что теряют при этом свои какие-то на самом деле возможности для нации. Я бы хотела тебе еще дать слово, чтобы завершить этот разговор.
Максим Трудолюбов: Я постарался нарисовать такую общую картинку, которая показывает, что Россия и США – это две очень существенные в мировом развитии культуры, которые, как мне кажется, связаны изначально, и растут из корня Просвещения. Хотя, и там, и там по-разному эти принципы реализовались. Просто мне кажется, что это материал для размышления. То огромное количество вещей, в чем мы разные – это тоже материал для осмысления в сторону того, как мы можем, думая о себе честно, критически и одновременно с глубоким пониманием собственной истории, измениться. Как наше общество может стать более отзывчивым, более сплоченным и привязанным к земле, но мирными способами.