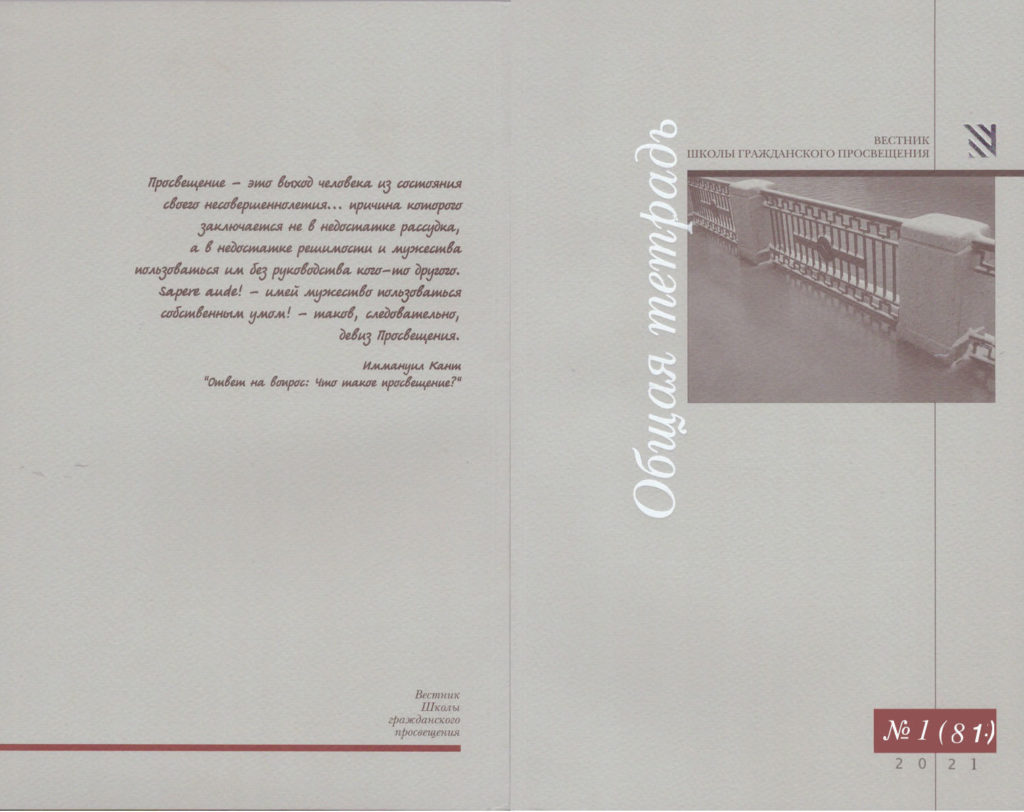Выступление главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» и главы одноимённого издательского дома Ирины Дмитриевны Прохоровой в рамках семинара Школы «Пространство культуры — пространство политики» (Москва, Мемориал, 19 декабря 2015 года). Стенограмма выступления расшифрована постоянным участником программ Школы Мариной Потехиной (Санкт-Петербург).
Лена Немировская: Я хочу познакомить этот зал с Ириной Дмитриевной. Для нас это большая честь и удовольствие, потому что лично нам, устроителям Школы, представляется, что Ирина Дмитриевна – как раз тот человек, который не только понимает, но искусно в это вовлечена и страстно говорит о том, как культура делает человека человеком и гражданином одновременно, и насколько это важно. Она вкладывает также свой интеллектуальный, профессиональный и человеческий труд в замечательное издательство «Новое литературное обозрение». Я хочу еще раз сказать спасибо Ирине Дмитриевне, которая возглавляет Фонд Михаила Прохорова. И мы уже второй год получаем от этого фонда значительную поддержку для того, чтобы проводить какую-то свою деятельность в России. Потому что смысл нашей деятельности, конечно, здесь – и для российских слушателей и для российских экспертов. Мне кажется, сейчас время для всех душевно сумрачное. Но когда мы видим и слышим вот этот зал, приехавший к нам из регионов, становится тепло.
Ирина Прохорова: Дорогие коллеги и друзья, для меня большая радость и честь выступать сегодня перед вами. Главной христианской заповедью считается «главный грех – это уныние», и вот этим мы все начинаем грешить. Время, конечно, тяжелое, и даже ужасное, но скорее оно подходит под анекдот «ужас-ужас, но не Ужас! Ужас!». Мы находимся в «Мемориале», который занимается той самой историей, которая действительно была «Ужас! Ужас!». Так что в этом смысле, мы прекрасно понимаем, что да, перед нами стоят очень сложные задачи, и ситуация очень драматическая. Но мне кажется, что если мы настраиваемся на такое катастрофическое мышление, мы сами загоняем себя в ментальный тупик. Мой оптимизм, может быть, природный, поэтому я и выбрала профессию издателя. Потому что издатель питается такой же энергией заблуждения, которую очень хорошо описал Толстой. Он сказал, что должна быть энергия заблуждения, что, если ты не напишешь очередной роман, то мир рухнет. Иначе зачем и как можно объяснить, что неглупый старик в 70 лет занимается такой ерундой, как писание романов. И издатель тоже, издавая свои книжки, считает, что в какой-то момент он изменит мир. В противном случае есть масса других занятий, нежели издавать интеллектуальную литературу. И в заключение моей маленькой преамбулы: из всего можно извлечь маленький позитивный момент. Вот погода, конечно, чудовищная за окном. Но если бы сейчас был мороз и солнце, половины аудитории здесь бы не было. Так что позитив есть даже в этом.
О чем я хотела поговорить? Я хотела поговорить о культуре как о ресурсе политического языка. Я не буду говорить про духовность. Я буду говорить о специфике России, и о том, как мы, может быть, не видим резервуар и потенциал смыслов, пользуясь во многом заемной риторикой.
Я начну с примера, который вам всем известен. Недавняя поразительная акция Петра Павленского, когда он поджег дверь ФСБ на Лубянке. И как ангел мщения тихо долго стоял на фоне этой пылающей двери. И оторопевшие милиционеры не сразу решились подойти к нему, они были настолько потрясены этой смелостью. Для меня эта акция чрезвычайно важная, и я действительно считаю, что это художественный жест. Причем, один из самых убедительных, ярких и талантливых. Петр Павленский уже часто проявлял себя как акционист, и он сам себя считает политическим акционистом, то есть это политическое искусство. Не в вульгарном его смысле, а действительно как язык политического. Вы знаете, что он приковывал себя за причинное место на Красной площади. Если не очень вникать, со стороны это покажется хулиганством. Но на самом деле, он очень современный и талантливый художник. И для меня очень ценно то, что делают он, группа «Война» и многие другие акционисты. Они, действительно, во многом помогают нам — людям, которые пытаются обсуждать политическую проблему. На самом деле, они разрабатывают в российских условиях новый политический язык. Я не имею в виду, что они какие-то слоганы делают. Они работают с этим социальным воображением, что всегда необходимо для любой культуры, которая развивается, и в разных направлениях. Но для России, я действительно думаю, культура и искусство имеют особое значение, которое, как ни странно, мы не до конца оцениваем по достоинству.
Мы всегда говорим о духовности, что это стержень идентичности и человеческого достоинства. Но я хочу напомнить о книге Андрея Зорина «Кормя двуглавого орла», где он замечательно показывает, как в ключевые моменты российской истории (он берет первую треть XIX века), образуется общий пул метафор, которыми пользуются культура в целом: и искусство, и идеология. То есть, на самом деле, это сообщающиеся сосуды. И во многом, особенно в российской ситуации, идеология черпает из пула поэтического (он в основном говорит о поэзии, но мы можем это расширить). И как раз в России именно поэтическое (культурное) воображение и является главным поставщиком социальных и политических метафор. Это очевидно можно проследить на протяжении XIX века, и во многом и XX века. Мы все время говорим о том, что, конечно, в императорской России никакой свободы слова не было. Впрочем, она была довольно ограничена и в западных странах, но в России она была куда более жесткая. Все развивалось на поле культуры, и все это прекрасно знают. Это, конечно, было зауженное политическое поле, и мы всегда это оценивали с отрицательной точки зрения. Политическая жизнь была практически невозможна. После 1861 года она развивалась, но тоже ограниченно. То есть, все социальные проблемы решались в поле культуры, это действительно так. И это стало очень мощной традицией. Но если посмотреть с позитивной стороны на то, что так сложилась историческая конфигурация, то мы видим, что, несмотря на все препоны, культура в России нашла способы мощного развития и впитала в себя очень много политических и социальных смыслов. Почему-то мы до сих пор это не рассматриваем. Если мы говорим об «особом пути», то о специфическом «особом пути» российского социального развития, который может опираться на достижения именно культуры для развития собственного политического языка.
Знаете, сейчас мы действительно начали какой-то новый этап серьезных интеллектуальных раздумий о том, почему те огромные возможности, которые, казалось, открылись перед нами в 91-м году, не были использованы демократической частью. Почему мы временно проиграли один из боев? Да, все было невероятно сложно, и многое удалось сделать. Но почему неожиданно реваншисты (консерваторы) сумели взять верх на какое-то время? Я все время об этом думаю со своей позиции, как человека, связанного с культурой и с какими-то социальными исследованиями. Я думаю, что во многом, нам надо посмотреть на развитие политической риторики 91-го года.
Вы помните, как в конце 80-х годов были, может быть, неуклюжие, но очень интересные попытки как-то сформировать свой собственный политический язык? Например, «административно-командная система», и были даже какие-то такие фразы, которые потом казались смешными. Было очень много забавных изречений, которые мы уже даже забыли. А сейчас я на них смотрю и думаю, что в принципе очень хорошо ведь было выражено. Это была очень точно описывающая ситуация. Но потом восторжествовал экзотический язык политической риторики, заимствованный из Западной Европы. И тогда это казалось очень свежо и ново. И это была совершенно понятная попытка уйти от этих идеологических заклинаний позднесоветской пропаганды. Мы все должны были стать прагматиками и щеголять экономическими терминами. И поначалу это действительно было очень яркое проявление. Например, газету «Коммерсант» читали все, потому что там неожиданно встречались какие-то «лизинги и клиринги».
А дальше, когда приходит консервативная часть публики, какую риторику и какие образы они привносят в общество? Они берут на вооружение имперскую историю, которая объективно является очень мощной традицией. Все, что мы знали и чему нас учили в школе и университетах – это, на самом деле, имперская история в разных одеяниях. И это часть нашей идентичности. И я хочу сказать, в данном случае, реваншисты оказались куда более креативнее, интуитивнее и, может быть даже, художественно одареннее. Мне это грустно говорить, но это так, потому что они апеллируют к идее Великой империи. Это очень мощная и прекрасная метафора. Конечно, они закрывают проект будущего. Потому что была замечательная история будущего, что мы, наконец, освободились от оков тоталитаризма и строим новое демократическое общество. И общество, в принципе, позитивно к этому относилось, оно адаптировалось. Но вот мне кажется, что недостаток этих социальных метафор, которые понятны людям и которые укоренены в специфике социального развития, привели к тому, что большое количество людей просто от этого отдалилось. Потому что это не очень понятно, что это за макроэкономика и графики? Я хорошо помню эту почти анекдотическую историю, когда Егор Гайдар поехал к шахтерам. И в конце его речи шахтеры спросили: «А Вы в Бога веруете?». И он ответил: «Я – агностик». Понимаете, шахтерам говорит. Здесь уже можно было вывести далеко идущие последствия всей этой блистательной и замечательной команды реформаторов. Не потому что они далеки от народа, а потому что, на самом деле, молодая политическая культура не имела своего языка. Она не успела его развить. А вот обращение к идее имперского величия оказалось очень действенно. И заразило не только «простых людей» (как мы любим говорить), но и огромное количество интеллектуалов поддалось этому очарованию. Потому что действительно, это тебя очень поднимает. Мы всегда были сами по себе, никто нам не указ, мы диктовали миру, и так далее. Знаете, ведь проблема заключается в том, что мы так воспитаны, и давайте посмотрим вглубь себя. Мы не можем признать, что мы живем в какой-то второсортной стране. Вот ни за что. Мы даже будем гордиться количеством наших преступлений, если больше нечем. Но мы должны быть уникальны, мы должны быть не похожи ни на кого другого. Это часть нашей культуры. И бесполезно с этим бороться. Попытка бороться с этим во многом и привела к поражению. Ну не может российский человек (неважно какой он национальности или религии) примириться с тем, что мы можем быть какой-то заштатной страной. Я бы сказала, что, признавая это, мы должны понять, что мы можем людям предложить, как идею гордости, вместо того, чтобы приучать их к ложному смирению. И в этом смысле, встает невероятный вопрос. Мы во многом понимаем, что империя – это очень проблематичный способ управления в такой огромной стране и с таким многонациональным и многоконфессиональным населением, что сверхцентрализация – это очень плохо. Скажите, какую привлекательную метафору того, что федерация – это лучше чем империя, мы можем предложить? Как мы можем облечь эту здравую мысль в ту художественную метафору, которая людям будет понятна и привлекательна? Мы можем перешибить имперское очарование очарованием федерации? Вообще, это очень сложная интеллектуальная задача, и просто так она не решается. И более того, мы не рассматриваем этот огромный резервуар культуры, который может нам помочь найти эту метафору.
Еще один очень важный момент, что консерваторы — наши соотечественники, а не выходцы с Марса. Поэтому я вполне серьезно отношусь и смотрю, как люди формулируют эти задачи. Есть же еще очень интересная травматический момент в истории России – это очень молодая культура. Как вы все понимаете, имперской России 300 лет. В общем, мы ровесники Америки. И как любая молодая культура, она стремится придать себе некую большую традицию. Отсюда все это бесконечное от Киевской Руси, что мы чуть ли не наследники Рима, уж не говоря о Византии. Признать, о чем много говорят историки, что на территории нашей страны, существовали разные государства и культуры, и что связь с Киевской Русью – это, конечно, абсолютная мифология, — это очень трудно. Наоборот, молодая культура как раз говорит: «Мы древние, вы не подумайте». Американцы завозили предметы культуры, обогащая себя за счет этого, что «посмотрите, какие у нас музеи, у нас ведь тоже европейская культура». Таким образом, они себя привязывали к европейской культуре и к ее древности. Мы изобретаем точно такую же традицию. Поэтому, сама идея, что у нас было великое государство и несменяемые бесконечные императоры и генсеки, привлекательна для культуры, которая не находит особых опор для своей легитимности. Как ни странно, консерваторы куда лучше используют ресурсы хотя бы той части культуры, к которой они, как и мы все с вами, принадлежат. Понятно, что нам это чрезвычайно не близко. Но вот вопрос: как мы облекаем демократические идеи в некоторую систему понятий, которые близки и понятны людям в нашей стране?
Поймите, если мы говорим о Европе, это тоже фикция. В Европе огромное количество государств и абсолютно разных традиций. Политический язык и политическая культура выросли во многом из теологии, а после из философии, то есть, из очень мощных интеллектуальных рефлексий. Недаром весь XVII-XVIII вв. – это «государство Левиафан» и всякая «невидимая рука рынка». Это все очень серьезные интеллектуальные разработки, подготовившие позже политический язык, которым уже пользовались в XIX-XX веках и продолжают пользоваться в XXI веке. В России не было такой традиции. Все развивалось немножко по-другому, и можно это рассматривать как элементарную специфику. В конце концов, политическая риторика Франции совсем не похожа на политическую риторику Англии. И никто по этому поводу вообще-то не переживает. Адам Смит в Англии писал про невидимую руку рынка. Более того, он все это делал не в отрыве от моральных вопросов, а наоборот. Ведь его первый труд посвящен как раз нравам и морали. И он как раз считал, что эта рука рынка работает только тогда, когда люди, объединены симпатией и уважением друг к другу. Тогда складывается система взаимоотношений. Так что, никакой голой экономики там не было. Перед этим была философская, и почти религиозная христианская идея взаимопомощи и любви, и даже иногда самопожертвования. Во Франции это был совершенно другой тип культуры. Можно взять каждую страну и увидеть, что там политическая риторика работала по-разному и из разных источников и ресурсов. Поэтому Ангела Меркель – царь и Бог в Германии, но у нее никакого шанса в Англии точно бы не было. Поэтому, вместо того, чтобы рыдать и говорить, что мы никак не дотягивает до европейского мыслительного уровня, давайте посмотрим, а до чего мы дотягиваем.
Мне кажется, что вот та мощная и очень разнообразная культура, которая действительно стала резервуаром развития, у нас даже и не исследована. Прошло 25 лет после падения цензуры и занавеса в нашей стране. Я всю жизнь занимаюсь этим, и честно вам говорю, что до сих пор, как издатель, я стою и жду, когда мне, наконец, принесут интеллектуальные тексты, где другая история культуры и другая история России. Потому что без этого другого исторического и культурного видения, мы ничего с вами не выстроим. Мы все равно потом заканчиваем тем, что у нас одни и те же герои: Петр Первый и Иван Грозный. И мы будем до хрипоты обсуждать герой ли Сталин или подонок? Это никуда нас не ведет, потому что мы остаемся в той же системе координат. У нас нет другой истории свободы. То есть, история свободы есть, только она у нас не написана. Потому что, к сожалению, большевики узурпировали это действительно освободительное движение. Они вписали его в ложный канон собственной террористической организации. Поэтому сейчас произнося про Герцена, Огарева и народников, все говорят: «Ой, оставьте все эти ваши либеральные штучки». И понимаете, интересным образом произошло, что в 90-е годы запрещенные большевиками консервативные мыслители оказались очень модными и интересными, потому что они были новыми.
Ну, кто сейчас захочет прочитать Герцена? А стоило бы, между прочим. Потому что мы бы новыми глазами посмотрели на эти все фигуры. Мне, например, чрезвычайно обидно, что гениальную пьесу о Герцене и Огареве, о демократах 60-х годов XIX века, написал англичанин Том Стоппард, который смог увидеть за человеческими слабостями, ошибками и утопическими взглядами, величие идей этих людей. А поскольку мы знаем, что Том Стоппард глубоко уважал одного из главных либеральных философов Исайю Берлина, он это изучил, и он это понял. У нас в Российском академическом молодежном театре в течение целого дня идет эта пьеса, и оторваться от нее невозможно. И ты вдруг понимаешь, что англичанин смог увидеть это величие, а мы не хотим это видеть. Потому что мы в плену советского учебника литературы, и культуры в том числе.
Что я хочу сказать, и к чему я веду. Время сейчас чудовищное, мерзопакостное, и так далее. Но это, мне кажется, замечательное время для серьезной интеллектуальной работы. Знаете, я всегда говорю, что мы плачем, что свободы нет. Но вот вопрос: а мы с вами к ней готовы? В 91-м году мы вообще не были ни к чему готовы, потому что до конца не могли себе представить, что Советский Союз рухнет. И надо отдать должное обществу, которое оказалось намного креативнее и дееспособнее, потому что за несколько лет в полностью руинированной стране заново был воссоздан весь фундамент страны. Была написана совсем неплохая Конституция, возникли новые сословия, классы и профессии. Много чего было сделано. Но не было этого момента внутренней легитимации. И, в общем-то, этого трудно было ожидать, потому что надо было решать, в какую сторону кидаться, а это было совершенно непонятно. Мы все были советскими людьми, и у нас был очень ограниченный социальный опыт. На новом этапе мы не имеем права быть снова не готовы к свободе. Вот мы страшно недовольны многими вещами. А представим, что мы завтра проснулись, и никого больше нет. Вот с чем мы выйдем к людям? Мы им про что будем говорить? Про либеральные ценности? Вот как только мы произнесем это словосочетание, нас сразу закидают помидорами. И не потому, что люди не готовы к свободе. Мой недолгий активный политический опыт показал, что люди вполне готовы к свободе. И очень многие люди, которых мы совершенно несправедливо называем «простыми», в своих жизненных практиках давно этот принцип исповедуют. Но мы не можем им объяснить, что между той чудовищной риторикой, которую они воспроизводят, глядя в телевизоры, и их жизненными практиками, — пропасть. У нас нет языка, способного объяснить.
По поводу того, что у нас не было нормальных социальных движений. Вот, наконец, сейчас мы видим, что дальнобойщики взбесились. И я что-то не вижу полного восторга по этому поводу! Вот когда даже есть классические движения (считайте, что это пролетариат бастует и возмущается), я не заметила, чтобы был крик восторга даже среди оппозиционных людей и в СМИ. Тогда мы, ребята, о чем вообще говорим? Мы тогда сами-то хотим этой самой свободы? Или мы хотим быть привилегированным сословием, которое сидит в тиши кабинетов и занимается игрой в бисер? Вопрос в нашем собственном представлении о том, что такое свобода, и чего мы хотим. А дальше то, каким языком мы можем с людьми разговаривать. И вот я боюсь, что отсутствие представления о той самой культуре, о которой мы так любим говорить, тоже не дает нам создать этот резервуар, из которого можно вообще конструировать какую-то новую политическую реальность.
Несомненно, христианство – это важнейший стимул развития в Европе. В России понятно, что на сегодняшний момент, большая часть населения считает себя православными, хотя на самом деле, в реальности они ими не являются, это скорее декорация. Дело в том, что специфика России в том, что она в течение трехсот с лишним лет ухитрялась существовать в таком многонациональном и многоконфессиональном составе. И мне кажется, этот ресурс мультикультурализма мог бы прижиться в России больше, чем в Европе. В силу именно разных исторических причин, в том числе, между прочим, и революции. Была невероятная ассимиляция очень разных групп людей, были и смешанные браки, и столкновение с очень разными культурами. Мы это видим, между прочим, на уровне советской кухни, которая абсолютно интернациональна, и это тоже очень важный источник развития. Но мы никогда не оценивали и никогда не смотрели даже на советскую культуру. Я говорю не про официальную культуру, а про то, как складывались разные тренды, как влияли эти разные культурные образцы на специфику культуры в целом. И это, на самом деле, наше колоссальное богатство, которое, мы опять же, совершенно не учитываем. И именно в силу нашего сверхцентрализованного сознания.
Почему у нас такой детерминизм? Мы считаем, что такая у нас история. Мы изучаем историю московского царства, в основном, как оно структурировалось. Оно в этом смысле нетерпимо и не демократично. Но в нашей большой стране есть очень много паттернов, которые совершенно другие. Ну, уж не говорим про Новгород, историю которого мы знаем, как Иван Грозный пришел и залил все кровью, и закончилась там демократия. За мои две поездки в Казань, я, например, с изумлением узнала из разговоров с местными интеллектуалами-историками, что там как раз сложилась уникальная ситуация. В Казани бок о бок, в течение многих лет проживали разные конфессии, и практически никогда не было межнациональных столкновений. Между прочим, это замечательный пример, что вообще-то можно и по-другому существовать. И в собственной стране мы имеем такую матрицу, которая никогда не рассматривалась как альтернатива московской сверхцентрализации. А это ведь тоже социальный и политический опыт. Почему это сложилось? Как это могло быть? Значит, существуют модели внутри одной страны, которые могут рассматриваться как другой принцип. Есть история Сибири, которая совершенно другая, которая точно плавильный котел. И там, например, никогда не было антисемитизма и никаких национальных розней. Это хорошо известно, в том числе, из жизни моей семьи, потому что мой папа – выходец из Сибири (из Алтайского края), и он приехал учиться в Москву в 49-м году, в рассвет антисемитской истерии. И он был потрясен и совершенно шокирован. Он не понимал, о чем идет речь. Потому что, живя в Сибири, даже будучи советским человеком, там вообще об этом разговора не было. Знаете, я думаю, что если бы мы серьезно начали изучать нашу историю, как историю сосуществования разных традиций, как историю политических и культурных конфигураций, мы бы нашли много выходов из сложившейся ситуации. Пока мы сидим в сверхцентрализованной имперской истории, у нас культура – это то, как у нас делаются торжественные концерты. Когда сначала выходят дамы в кокошниках и пляшут, потом еще чего-то, после патриотические песни. А в конце танцы народов Советского Союза и России. И, к сожалению, это не меняется. Эта рамка так и остается. Это такое полуколониальное отношение к разным этническим и культурным группам. Я думаю, что если мы сами изменим оптику нашего видения, социального оптимизма у нас прибавится. Потому что, мало того, что мы найдем способы преодоления этого навязанного нам идеологического представления о стране, мы найдем и способы альтернативного политического языка для разговора с нашими людьми, которые давно готовы к свободе. Только ни они, ни мы сами этого не знаем.
Эвелина Писклова (Алтайский край): Вначале я хочу поддержать тему социального оптимизма, о котором Вы говорили. Я мама шестилетнего ребенка, и однажды у него поднялась высокая температура под 40 градусов. Я его пичкала таблетками, давала лекарства и натирала водкой, но ничего не помогало. И когда приехала скорая помощь, я уже была буквально готова расплакаться, и я задала врачу вопрос: «Почему же ничего не помогает?» На что он ответил: «Если бы вы всего этого не делали, было бы гораздо хуже». У нас довольно мрачные настроения по поводу состояния нашего общества, несмотря на то, что есть Школа и много подобных институтов в регионах. Мне кажется, что если бы мы всего этого не делали, было бы, наверное, гораздо хуже. А вопрос мой следующий. Вы говорили, что российская история – это, в основном, история государства, это практически никогда не история человека. То есть, то, что мы знаем о своей стране – это то, что мы знаем об империи. Но при этом мы ничего не знаем о людях, о том, как они жили на всех этапах существования нашей страны. Есть ли исторические издания, которые посвящены истории людей? Где мы можем проследить не то, какой замечательной империей была наша страна в предыдущие годы, а то, как жили люди?
Ирина Прохорова: Вы знаете, я всячески как-то подталкиваю коллег историков как раз к какому-то другому взгляду на историю. Но вообще у меня есть целая серия, которая называется «Культура повседневности». Там, к сожалению, пока больше переводных статей, но это то самое. Это попытка написать историю людей. В какие времена человеку, личности было легче выживать и самореализовываться (и тут могут быть самые поразительные вещи). Или, какие социальные сословия выигрывали в той или иной ситуации. Потому что история многоликая. Это сложный момент. Этим занимаются историки по всему миру. Как написать транснациональную историю? Как написать историю Европы? Россия, конечно, часть Европы, что бы мы там ни изображали. Еще раз хочу сказать, что Европа очень многоликая и разнообразная. И если мы возьмем Швейцарию, она не менее уникальна, чем Россия, потому что Швейцария – это, между прочим, прообраз США. Потому что в XIII веке объединились первые территории, которые создали Швейцарию по принципу федерального устройства. Почему-то все это забывают. И когда говорят, что это не европейский принцип, он как раз, наоборот, очень европейский, потому что это первая страна демократии. Мы еще руками ели, а они уже первые кантоны объединили и принципы выстроили. Сейчас у нас идет война в Сирии, и те, кто ее оправдывают, все время говорят, что мы должны показать свое влияние в Европе. То есть, у нас есть представление, что только бомбами можно показать. А Швейцария, между прочим, нашла способ влиять на Европу, развив совершенно другой принцип, и очень мирный принцип: там у нас банки, там еще что-то. И даже если писать историю государств, если это делать в сравнительной перспективе, можно увидеть невероятное количество находок и откровений о том, как сохранять территориальную целостность и как иметь влияние в мире, не военным путем, а используя совершенно другие методы.
Я хотела еще сказать то, что не успела. Опять же, мы эксплуатируем наши природные ресурсы, совершенно не понимая, что наш главный ресурс – это культура. И кстати, отличие восточноевропейского развития (не только России) — это невероятное уважение к культуре в целом и к образованию. И на этом строится действительно восточноевропейская идентичность. В данном случае, легко сравнить многие страны, чтобы просто понять, как это работает. Культура сейчас – это источник не только духовности и политических метафор, но вообще это и новая экономика. Культура — это экономика XXI века. Обратите внимание, что Швейцария одна из первых это использовала. В Швейцарии нет никаких полезных ископаемых. Она сделала природу и то немногое культурное, что у них есть, источником колоссального экономического дохода. Это культурный туризм. В нашей стране такое количество красивейших мест, что Швейцария двадцать раз отдыхает. Но мы же совершенно не рассматриваем это как ресурс. А как вы разовьете культурный туризм? Как раз только что прошла Красноярская книжная ярмарка, которую Фонд организует. И у нас там была тема: «Карта Родины. Художественное освоение пространства». Это вопрос о том, что невозможно развить даже культурный туризм, потому что, если вы посмотрите на карту нашей страны, там сплошные белые пятна. Потому что мы знаем что-то о Москве, знаем что-то о Петербурге. Нас в школе этому учат, а потом это многократно описано. Как москвичка, что я знаю? Допустим, Красноярск я немного знаю, так как я туда часто езжу. А что для меня какой-то другой город? Да вообще ничего. В лучшем случае, там какой-то завод гигант, или где-то взорвало какой-то дом, и президент туда поехал, и мы об этом знаем. То есть, локальной истории не существует. А если нет локальной культурной мифологии, вы не разовьете туризм, потому что вам не на чем. Что вы будете в путеводителе писать? В этом смысле культура оказывается таким невероятным паровозом экономического развития. Что в России развивалось поверх всякой цензуры? Странным образом, образование и культура. А почему вместо того, чтобы грозить оружием соседу, не сделать Россию, например, мировой образовательной державой, куда все приезжают учиться и бешеные деньги за это платят. Или сделать огромную туристическую вольницу? Ведь такое количество богатства мест. Да еще можно изобрести любую локальную традицию. Но в этом направлении вообще не думается, потому что культура у нас на канале «Культура». Вот у нас есть жизнь, и там немного культурки для сытых и богатых (как почему-то полагают). В этом смысле, я и думаю, что, как ни странно, в России это был бы самый мощный рычаг развития, но он абсолютно никем не рассматривается, даже нами.
Евгений Тищенко (Иркутская область): Вот когда Economist на своей обложке помещает Ангелу Меркель на развалинах ЕС и пишет, что это «Trümmerfrau» («женщины развалин» — так называли женщин, разбирающих Берлин в 1945-м году), мы понимаем, что политический новояз у них сложился. А как у нас? Михаил Марусенко из Санкт-Петербурга написал книгу «Языки и национальные идентичности». Он говорит, что если мы кодифицируем новояз очередного политического класса, то мы волей-неволей будем вынуждены пересматривать все цивилизационные моменты всей нации. Согласны ли Вы с такой оценкой?
Ирина Прохорова: Понимаете, это ведь творческий процесс. Невозможно сказать, что теперь мы кодифицируем, например, «мочить в сортирах», и тогда у нас все расцветет. На самом деле, мы видим, что нынешний язык власти – это во многом модифицированный язык советской пропаганды. И даже с прибавлением нацистской пропаганды. «Национал-предатели» — это уже что-то из другого ряда, что страшно и, кстати, даже не осознается большинством людей, произносящих эти слова. Это работает на мобилизацию и увеличение агрессии, но это не сильно способствует развитию страны, как мы видим. То, о чем я говорю, не решается так, что сегодня мы постановили, сейчас найдем метафоры и поехали. Я говорю, что это мучительный процесс, который может быть очень долгим. Мы никогда в этот резервуар не залезем, если мы не сменим оптику видения и не поставим какую-то другую модель развития и представления о стране. И, кстати, о взаимоотношениях интеллектуального сословия с другими профессиями. Когда мы много говорим о свободе, у меня есть большой вопрос, что мы действительно в это вкладываем. Иногда у меня складывается впечатление, что мы хотим быть привилегированным сословием, а вовсе не носителем демократических ценностей. Обратите внимание, только в последнее время все вдруг заговорили, что надо просвещать людей. До этого 20 лет слово «просвещение» всегда произносилось с ухмылкой, и наш проигрыш во многом в этом. Пятнадцать с лишним лет был огромный ресурс медиа, который вообще не использовался, даже для объяснения того, что мы имеем в виду под демократией и либерализмом. Это теперь они стали ругательными словами, потому что людям стало вообще непонятно. И когда мы слышим, что народ тупой и не понимает, то мы можем сразу сказать: «Так, мы про демократию больше не разговариваем». Если мы, как плохие учителя, считаем, что у нас ученики плохие, значит надо менять профессию. А разговаривая с людьми, надо понимать, что вы им скажете и как вы донесете. Это же практический момент. Ну что такое абстрактные «гражданские свободы»? Абстрактно людям это непонятно. А вот конкретно может быть понятно. И это вопрос не просто заимствования каких-то словечек. Когда мы говорим о социальных метафорах, мы говорим вообще о другой системе сознания, и прежде всего, мы сами должны учиться демократии, мы должны сами стать демократическими людьми в полном смысле слова. И разговаривать не с властью. Вот смотрите, мы все время комментируем, что сказала власть. Но мы совершенно не хотим смотреть и комментировать, что хочет сказать общество. Общество корчится безъязыкое, у него нет языка для выражения какого-то недовольства и протеста. Когда из людей начинает изливаться какая-то чернота, я, например, понимаю, что на самом деле, это такой внутренний дискомфорт, который человек прикрывает такой риторикой, которую он слышит из телевизора, и не факт, что он ее реально придерживается в своих жизненных планах. Поэтому это сложная и важная интеллектуальная задача. Но в этом смысле это то, что называется challenge для нас. И это увлекательная вещь. Фактически мы встаем в ситуацию романтиков начала XIX века, когда они в полном смысле изобретали традицию. Та история, которую мы имеем – это продукт романтического сознания. По большому счету, это конструкт. И как ни странно, власть как раз этим прекрасно пользуется. А мы в этом смысле свою фантазию не включаем, потому что, мне кажется, есть внутренняя проблема в самом мыслящем сообществе. Я бы хотела сразу подчеркнуть, что я все это говорю в рамках самокритики. Я не проповедник, который вам что-то внушает. Это исключительно мои собственные боли.
Артем Торчинский (Москва): Была ли «либеральная империя» Анатолия Чубайса попыткой найти какой-то новый месседж? И имеет ли в какой-то форме шанс на успех партия «европейских ценностей» с посылом о том, что мы за культурное вхождение в Европу, как было на Украине (Украина – это Европа)?
Ирина Прохорова: Да, конечно, была попытка Чубайса в какой-то момент, уже в преддверии краха этого демократического тренда. Но мне кажется, то, что было «либеральной империей» – это то же самое, что «управляемая демократия». То ли это была попытка подыграть: «ладно, хотите империю, так давайте либеральную». Но так вообще-то невозможно. Не может быть империя либеральной, она угнетает народы. Империя должна быть сверхнациональной. Невозможно говорить про титульную нацию, особенно в России. Но вообще я бы сказала, идея империи порочна сама по себе. И с моей точки зрения, в России она ни к чему хорошему привести не может, поэтому все попытки такого кентавра, не увенчались успехом. В этом смысле агрессивная идея «у нас великая империя, мы все умрем за нее» работает лучше.
Для меня это как раз очень любопытный момент. В моем недолгом качестве человека политического, мне все время приходилось отвечать на вопросы очень разных людей (а это действительно очень развивает, потому что люди задают вопросы, которые ты не ожидаешь. В своей среде более-менее понятно, что тебя спросят, а там не всегда понятно). Как отвечать на какие-то вопросы, которые, казалось бы, очень простые? «А мы готовы всем пожертвовать, лишь бы Крым был наш». Я говорю: «Хорошо, вы готовы пожертвовать собой и своими детьми. То есть, вы и своим детям завещаете бедность и нищету, ради того, чтобы Крыш был наш? Вы на это согласны?» Начинается такое некоторое молчание, потому что о детях никто не думает. Допустим, человек говорит: «Да, я готов. Пусть мой сын будет бедным, но зато Крым нашим». Я говорю: «Странно, если уж вы готовы жертвовать чем-то, почему вы не можете пожертвовать этим ради свободы? То есть, ради Крыма вы готовы жертвовать благосостоянием, а ради свободы – нет?» И это, кстати, тоже интересный момент, потому что идея свободы в людях не разработана. Я всегда привожу пример тех же самых швейцарцев, когда герцог Савойский, если я не ошибаюсь, в XVIII веке хотел прихватить часть Швейцарии, а тогда это была довольна бедная страна. И он обещал швейцарцам благосостояние, на что они ответили, что лучше будут нищими под сенью свободы, нежели сытыми в неволе. И тогда, ребята, какие же приоритеты? Ради абстрактной великой империи вы готовы своих детей обречь на нищету, а ради свободы – нет? И надо сказать, человек теряется, он начинает думать. Вот это, мне кажется, важная ситуация. Ребята, не хотите быть богатыми, не будьте; так давайте будем бедными, но свободными, а не бедными и угнетенными.
Если в нынешней ситуации партия будет называться «Европейские ценности», боюсь, у нее шансов не так много. К вопросу о креативе, проповедовать европейские ценности можно, и не называя слово «европейские». Ведь мы, когда обсуждаем это, говорим с позиции светской культуры, и я сама главный приверженец светской культуры. Но вопрос для меня следующий: если мы говорим о Европе, там новый политический язык рождался из революции в религиозном сознании (все эти битвы протестантов с католиками). У нас сейчас внутри церкви невероятный раздрай. И там есть действительно передовая часть священников, которые очень много и серьезно об этом думают. Может новый религиозный язык стать основой какой-то новой политической риторики? Собственно, а почему нет? Мне это совсем не страшно. Потому что наша нынешняя церковь – это, конечно, печальное явление. И церковь ждут большие проблемы, и они уже есть. Но мы весь арсенал возможностей вообще не рассматриваем, потому что прогрессивные священники и верующие – это тоже наша опора, а мы видим только Энтео и компанию. И мы других верующих людей не видим. В этом смысле, мы тоже находимся во многих шорах, не позволяющих нам видеть. Европейские ценности – это, в том числе, христианские ценности. Хотя в России проповедовать только христианские ценности, учитывая, что здесь столько конфессий – это тоже большой вопрос. Но религиозный язык не обязательно связан только с христианством. Это апелляция к эмоциям. Даже идея самопожертвования, которая в народе очень сильна, во всяком случае, хотя бы риторически, это ведь тоже можно использовать.
Евгений Коноплев (Московская область): Я хотел бы апеллировать к самому началу Вашего доклада, где Вы говорили о художниках и о символах культуры. Я, к сожалению, не смогу Вам предложить новых креативных идей и методов продвижения либерализма, но я искренне обещаю, что буду об этом думать. Но я бы хотел с Вами горячо поспорить с тем, что Вы говорите, будто условные «они» (консерваторы и изоляционисты) побеждают. Я сейчас говорю о культурных символах. Ни для кого не секрет, что такие группы, как Ляпис Трубецкой, избрали протестную политику. И даже появление Юрия Шевчука среди дальнобойщиков и его песни для них, — это не новость. Но кто бы мог подумать три года назад, что Макаревич, ранее певший на корпоративах для человека, заведовавшего кремлевской внутренней политикой, вдруг станет одним из знамен оппозиции и будет петь песни «Моя страна сошла с ума»? Для меня лично планкой, после которой мне показалось, что «всё, достали», стала смена позиции Бориса Гребенщикова, который написал песни «Губернатор» и «Праздник урожая во дворце труда», и который со сцены сказал про РПЦ «они сошли с ума» в ответ на заявление Чаплина. Скажите, когда происходит такое, Вам не кажется, что они совершенно не побеждают? Они просто тушат костер сухими листьями. Да, на какую-то секунду они его загасят, а потом задымит и полыхнет. И второй вопрос. Для меня такой планкой стала смена позиции Гребенщикова. Для Вас есть какая-то планка, после которой Вы скажете, что в воздухе запахло переменами?
Ирина Прохорова: Я ведь не говорила, ничего вам противоречащего. Я говорю, что они символически и риторически нас переиграли. Вот о чем разговор. Что зреет недовольство, мы с вами видим и невооруженным глазом. Понятно, что многие творческие люди четко выбрали позицию. Я говорила о том, что недовольство назревает. Но понимаете, недовольство – это скорее отрицание. И есть много недовольных, причем с разных сторон. Мы в свое время опубликовали прекрасную книжку Николая Митрохина «Русская партия», где он показывал, что оппозиция большевикам в уже послевоенном Советском Союзе шла не только с либерального края (о чем мы знаем), но и со стороны ультранационалистов. Если либералы считали, что советская власть слишком жесткая, то националисты считали, что она стала слишком мягкая. Оппозиция может быть разная, и недовольство растет с разных сторон. Помимо критики существующего режима (в чем мы всегда сильны) вопрос следующий: а как мы заново реабилитируем систему демократических ценностей в глазах этих людей? Потому что большинство вообще может стать жертвами очарования еще какой-нибудь доктрины. В конце концов, мы видим и нарастание фашистских идей, которые очень привлекательны, и они пускают свои корни не только в «Русском марше». Пропаганда ксенофобии, о чем, кстати, спрашивалось. До того, как нам начали рассказывать про угрозу сексуальных меньшинств, 95% вообще не имело представления об этом, и проблемы, как мы понимаем, не было никакой. Понятное дело, ищутся такие ложные проблемы, канализирующие недовольство людей в эту сторону. Тем не менее, всегда играть на низменных инстинктах значительно проще, чем на высоких чувствах. Предположим, большая часть населения по разным причинам окажется недовольна. Все равно нам сказать то, в общем, нечего. Вот в чем вопрос. То есть, мы знаем и понимаем, на уровне идей, как надо. А на уровне риторики и метафор?
Гапур Гайсулаев (Чеченская Республика): Прежде всего, вспоминается российский кинематограф, который, на мой взгляд, страдает в первую очередь. И тесно монополизированные связи, например государственный холдинг ВГТРК, который производит и сам же реализует, так называемые, культурные мощности. Как Вы считаете, стоит ли в ближайшее время ожидать каких-то значимых изменений в этой системе? Стоит ли ограничить влияние государства в реализации этих культурных мощностей? Если да, то в какой степени? И нет ли ощущения, что государство развивает и поддерживает только консервативные направления в искусстве?
Ирина Прохорова: Оно, несомненно, поддерживает. У нас принята программа культурной политики, где прямо черным по белому написано про «сохранение ценностей», а это, мы знаем, консервативное искусство. Я вам скажу честно, что это вообще не новая история. Это собственно воспроизводство советских стереотипов, когда общенациональной почиталась консервативная культура, а любой эксперимент казался вражескими происками. Собственно, к этому и вернулись, потому что сейчас у власти люди очень консервативного мышления. А что такое консервативное искусство? Это такое фигуративное искусство, понятная культура, — такая средне советская, как я ее называю. В этом смысле совершенно все понятно, и это грустно. С другой стороны, я всегда вспоминаю замечательные пьесы Евгения Шварца, особенно «Тень». Там моя любимая фраза – это когда один министр говорит другому: «Ну что, теперь все отлично. Кажется, все под полным контролем». А другой отвечает: «Знаете, у меня такое неприятное предчувствие. Тогда, когда нам кажется, что мы уже все контролируем, жизнь снова поднимает голову». Вот в этом смысле, страна плохо предсказуема. Это как в 91-м году, когда все считали, что это будет навсегда, пока все не кончилось в один момент. Ну да, государство производит эти чудовищные сериалы и фильмы, а общество платит им тем, что российские фильмы не смотрит. Это известно. Потому что, если люди семьей пойдут в кино, они, как правило, ходят на американские фильмы. В маленьких городках обычно один кинотеатр, и это там единственное развлечение. И в субботу, надевая свои лучшие одежды, они всей семьей с детьми идут и смотрят те самые американские фильмы и радуются победе добра над злом. А после возвращаются домой и опять говорят про проклятых американцев. Это никак не связано одно с другим. Если мы сейчас говорим не о государственной культуре, которая, кстати говоря, самая беспомощная и самая бессмысленная, что меня радует, то у нас с вами с 90-х годов — поэтический ренессанс, но об этом мало кто знает, и мало кто понимает. Видимо потом мы скажем, что мы жили в очередном Золотом веке. Я как издатель могу вам сказать это абсолютно точно. У нас просто невероятное количество талантливых поэтов. У нас сейчас театральный бум. У нас выросло целое поколение блистательных театральных режиссеров мирового уровня. У нас невероятно интересное документальное кино. У нас очень много прорывов. Современное искусство уже давно не подражательное (оно, кстати, таким было уже с 90-х годов). Так что, что касается культуры, она удивительным образом себе пробивает дорогу. А новые технологии, интернет и так далее, позволяют делать массу вещей и это доносить. Да, понятно, есть попытка это все как-то пригнуть к земле, но я как-то не очень верю, что это получится. Надо, конечно, ограничивать вмешательство государства и бороться с этим. Ну, вот история с «Золотой маской», когда театральное сообщество, наконец, вздыбилось и довольно активно, и отчасти успешно пока отбивает атаки, не позволяя официозу топтать (были отдельные истории как с «Тангейзером»). Но, в общем, здесь театральное сообщество взялось за руки и немножко поставило барьер. Знаете, я бы сказала, что искусство в этом смысле, это же, действительно, легкая кавалерия. Она очень быстро выскакивает, как только кто-то появляется. Культура является очень мощным орудием. Просто так не убьешь.
Денис Ягодин (Санкт-Петербург): Все мы выросли на советских учебниках. И по истории, соответственно, мы все мыслим в рамках этой системы. И если начинать вводить другой взгляд на историю, может, стоит начать с прививки? Взять западные учебники, в том числе, и по истории России, и по истории Советского Союза, и начинать их прививать? Что покажет как раз возможности нового взгляда. И второй вопрос, готово ли наше общество для федерализации России? История у нас имперская с вертикалью власти. Соответственно, если у гражданина возникает потребность решить проблему, то звучит: «президент, помоги», «губернатор, помоги». Федерализация как раз подразумевает, что человек сам несет ответственность за свои действия, и сам решает свои проблемы. Сейчас мы этого не видим. Когда общество будем к этому готово?
Ирина Прохорова: В западных учебниках нет нового взгляда, но там много исследователей. Мы переводим очень много исторических книг, чуть меньше академических. Много интересных сюжетов и тем, но проблема, которую мы сейчас обсуждаем, в том, что нет ничего готового. Потому что и в западных странах существует советологическая традиция, которая тоже является остаточным явлением. И рая нет нигде. И потом, я скажу честно, у нас это тоже советское, или российское ощущение второсортности, что мы ничего не можем. Да можем. Интеллектуально у нас, как раз, есть поразительные возможности. Это проблема вообще для исторического всемирного сообщества, она не решена нигде. А у нас это настоятельная потребность – идея негосударственной истории. Вообще, все равно большинство исторического сообщества живет в рамках национальных историй. Проблема в чем? А как вы напишите транснациональную историю? Транснациональная история исходит из идей легитимации национального опыта. И все преступления списываются на то, что это было для блага нации. В данном случае, наша государственная (имперская) история ничем не отличается от других историй. Вопрос, который встает перед мировым сообществом: как писать историю не национальную. Мы все равно принадлежим неким национальным сообществам. А как это – история людей? Вот как ее написать, зная, что существует много национальных правд, которые создают много неправды? Официальная власть ругается, что национальная история Украины искажает. А она что, собственно, искажает? Советскую имперскую историю. А у нас есть другая история. А Литва сейчас напишет третью историю. И они будут все совершенно разные. Вопрос не для государства, а для нас — а наше историческое видение какое? Оно может быть автономно от государственного? Это вопрос, на который нет пока ответа. Но мне кажется, он назревает. И опять же, это страшно интересно для интеллектуальных людей. С этим можно и нужно работать. А просто переводами – у нас миллион переводов, на самом деле.
По поводу федерализации, я бы не согласилась с Вами. То, что я могу наблюдать сейчас, например, этого совершенно не было в 90-е годы. И вы знаете, есть такой парадокс. С одной стороны, мы видим такое невероятное давление старой идеологии власти, а с другой стороны, мы сейчас видим фундаментальные изменения в обществе. Не на уровне риторики, она ужасна. Но посмотрите на волонтерское движение – это довольно новая история. В моем поколении, да даже в 1990-е годы, мы бы вообще глаза выпучили, если бы нам сказали, что это есть гражданский долг. Мы были очень советскими людьми в этом плане. Между прочим, мне кажется, что это революция в сознании. И то, что это охватывает такое количество, в первую очередь, молодых людей, мне кажется, говорит больше и лучше об обществе, чем то, что эти люди произносят. Я для себя решила, что если я слышу человека, который кричит «Ура Крыму!», но работает в хосписе, я его заранее прощаю с Крымом. Он с Крымом потом разберется и пересмотрит. Но то, что он делает и говорит, означает, что он уже не раб и не советский человек, и у него совершенно другая духовная организация. Этот человек готов к самопожертвованию, это в высшем смысле и в лучшем смысле религиозное сознание.
Посмотрите, как развивается краудфандинг. А это та же самая история. Вот только недавно в Мемориале вышла книга про Катынь. Я вас уверяю, 10 лет назад не собрали бы ни копейки на такие истории. Я знаю, как начинается grazed of democracy, просто мы это тоже не видим, мы же все видим крупные схемы. А, например, как родители с больными детьми объединяются, бегая по инстанциям. А потом собираются, скидываются, и скажем, если у них дети больные аутизмом, берут там какого-нибудь специалиста по арт-терапии. Скажете, что это мелочи, но это и есть главное. Общество начинает учиться и начинает самоорганизовываться. Это те самые горизонтальные связи. Мы ждем, что сразу, вот у нас сейчас будет пять партий. Они никогда не создадутся, потому что они венец – это верхушка айсберга. А начинается это с того самого низового. Так что, как ни странно, мне кажется, общество то уже многому научилось. Оно просто само не понимает, что оно куда лучше готово к свободе. Потому что нам все время с высоких трибун говорят, что мы не готовы, и вы тоже это повторяете, пропаганда и на нас действует. И когда мы говорим, что народ у нас ни к чему не готов, слушайте, я не верю. Я наблюдаю, кто приходит покупать книги на Красноярской ярмарке, и какие книги. Это вовсе не только профессура. Да, конечно, Красноярск – это университетский город. Но приходят все слои населения, от работяг до профессоров. И безошибочно, между прочим, покупают правильные хорошие книги. Мы считаем, что если ты не прочел вот такой-то запас книг, то ты не человек. Жизненный опыт людей у нас, конечно, ограничен. Но у большого количества людей он огромен и драматичен. И этот опыт позволяет им иногда делать правильные выводы, иногда раньше, чем делаем это мы, потому что мы в плену разных метафор, мы очаровываемся разными идеями. Поэтому, мы не знаем, насколько они готовы. А может быть, готовее, чем мы думаем? Мы, что, когда-нибудь серьезно изучали общество? Мы же пользуемся вот этими же стереотипами «народ не готов», и нам сверху говорят, что не готов. И свободы у нас никогда не было. Кто сказал? Кто проверял?
Анна Байдакова (Москва): Ирина Дмитриевна, спасибо Вам большое за Ваше выступление. Для меня в нем прозвучало много важных вещей, но одна из них очень важная. Когда Вы говорили об этом сообществе людей, которых не относят к интеллектуальной элите, когда Вы слышите, что из них исходит какая-то черная злость и оппонент плюется какими-то злыми фразами, Вы думаете «что же его мучает настолько?» Мне кажется, это очень важная вещь, которой как раз не хватает во всей нашей общественной дискуссии. Когда ты читаешь какую-то пространную ругань, например, в социальных сетях, никого не занимает, о чем же думает на самом деле оппонент, который говорит тебе такие ненавистные вещи. Что у него так сильно болит, что он тебе это все говорит? И в ответ надо не начинать его бить по голове какими-то хлесткими фразами, а попробовать понять. Может, стоит поговорить о том, в чем вы друг друга не поняли. Это действительно важно, и это то, чего действительно не хватает, какой-то способности момента тишины и внимания к оппоненту и принятия его. На самом деле, это называется чувством любовь в глобальном смысле. Вопрос языка, того, как мы ведем нашу дискуссию – это не только вопрос интеллектуального усилия, как нам придумать способ разговаривать, это еще и вопрос душевного усилия: шаг назад от своих твердых вещей, которые мы хотим сказать и утвердить и одновременно шаг навстречу к тому человеку, с которым мы разговариваем. И когда мы говорим про переосмысление языка и переосмысление истории, очень важный вопрос дискуссии, что с нами было, переосмысление каких-то травматических моментов в прошлом. Насколько мы готовы к дискуссии о нашей стране, будь то сталинское время, или начало 2000-х годов? Вообще любые моменты, которые мы считаем важными, и которые закладывали наше настоящее?
Ирина Прохорова: Ваша реплика и Ваш вопрос – очень правильные. Вот все, что мы видим: это страшное взаимное озлобление – это такой порочный круг. И конечно, главная и самая большая травма нашей страны – это Гражданская война, которая не кончается. Мы в свое время издавали такую книгу «Холодная гражданская война» — это сборник эссе венгерских интеллектуалов, которые это, собственно, описали. Просто один к одному, если там «Венгрия» заменить на «Россия». Пока мы поддерживаем эту систему противостояния, неважно, исходя из каких интересов, мне кажется, мы вообще ничего не сможем решить. Я все время об этом думаю, на самом деле. А получается, что мы все равно существуем тогда в этой вертикале власти. Потому что, мы на самом деле то друг друга не любим и презираем, и неважно, кто это и из какой партии. В этом смысле, гуманизация нашего общества связана, прежде всего, с тем, что мы должны сменить систему приоритетов. Строго говоря, семья не должна распадаться, а влюбленные не должны расставаться по вопросу о Крыме, что сейчас происходит. Пока политика нас разделяет, мы будем всю жизнь существовать в авторитарном государстве. Это классика. И это ужасно тяжело преодолеть, потому что, когда ты видишь человека, который тебе говорит ужасные вещи, первый импульс: «сейчас убью». Вот если мы сможем поставить личные взаимоотношения выше политических разногласий, мне кажется, это будет точно революция в сознании, куда большая, чем даже разговоры о том, что такое либеральные ценности. Это и есть, собственно, демократические отношения. Я, например, для себя решила этот вопрос в момент разгара с Крымом, когда я чуть не перессорилась с половиной своих друзей, с которыми дружу сорок с лишним лет. Я сказала: «Ребята, мы что, сошли с ума? Сколько раз вы меня выручали из самых страшных ситуаций? Я тоже всегда пыталась помочь. Неужели мы с вами на старости лет из-за какого-то Крыма расстанемся навсегда?» И мы решили, что на определенные темы мы просто не говорим. То есть, все, табу. Говорим о многом другом, а дальше, когда все утихнет, мы решим, кто был прав, кто виноват. Знаете, в некотором смысле, это и есть общественный договор. Мне кажется, что если бы мы сказали: «Так, ребята, нам непонятно, правильно это или неправильно, но мы должны установить только одно: общество не должно таким образом расколоться на ненавидящих друг друга людей».
Мы недавно издали книжку французского исследователя Сесиль Весье об истории диссидентства в России, и даже делали здесь презентацию. Я считаю, это потрясающая книга. Это и есть учебник, как проходила эволюция гражданских взглядов. И главный месседж там, который очень ценен: почему правозащитники, например, никогда не создавали никаких партий и не были политиками? А потому, что они исповедовали как раз толстовский принцип (который очень часто извращают) о непротивлению злу насилием. Они считали, что отвечать злом на зло — бессмысленно. Вы просто порождаете бесконечный круг насилия. Необходимо просвещать людей, объяснять им, что такое гражданские права. Ну, людям не очевидно, почему надо бороться за отмену такого вот пункта Конституции, они просто не очень понимают, как работает этот механизм. Ведь Есенин-Вольпин правильно говорил, что если один человек возмущается, его убьют, десять человек – их посадят, а если хотя бы 58% населения скажет «нет», власти придется менять законы, потому что все, они не могут дальше управлять. В этом смысле, это и есть разговор о просвещении. И начало должно быть положено, говорите: «Ребята, вы мне дороже как люди, а ваши политические взгляды – ваше личное мнение». Согласитесь, что пока мы это делать не умеем. Мы не видим в наших оппонентах людей и соотечественников. Мы видим исчадие ада, и они на нас смотрят точно так же. И это не важно, кто первый начал. Это, кстати, почему многие сейчас не поддерживают дальнобойщиков. «А, вот когда мы выходили на демонстрации, вы кричали, что мы пятая колонна. И мы вас не поддержим». Ну и здравствуйте, тогда в чем же наша просвещенность? Ну, не понимали люди, а сейчас самое время им объяснить, что «мы выходили за вас, а не за какие-то там абстрактные ценности».
Вадим Глухов (Удмуртская Республика): Ирина Дмитриевна, Вы сказали, что либералы проиграли консерваторам, потому что консерваторы были креативнее. Вспоминая историю, у большевиков было три лозунга на шесть слов: «Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Власть Советам». Самый недалекий человек понял эти лозунги и нашел, что ему надо. И массы пошли за ними. Надо отдать должное, белое движение проиграло там с разгромом. На мой взгляд, чтобы сейчас как раз либералы взяли реванш (а страна большая; и чем больше страна, тем меньше слов должно быть), нужны три лозунга на шесть слов. И второе, город Ижевск – это родина автомата Калашникова. У города было три самых мощных толчка развития: война 1812 года, Первая мировая война и Вторая мировая война. Плюс, институт Баумана был эвакуирован к нам (то есть, прибавилась наука). И после войны всех немецких конструкторов сослали к нам, они еще лет десять у нас работали. То есть, грубо говоря, город Ижевск всегда питался войной. И буквально полтора года назад, когда были крымские события, у нас один человек на весь город вышел с маленьким клочком бумажки, на котором было написано «Я против войны». Так его еще до приезда полиции, местные чуть не убили. Потому что, сейчас наши заводы работают в три смены, рабочие получают хорошую зарплату. То есть, мы питаемся войной. И таких городов на территории страны очень много. Почему мы не можем таким территориям придать какую-то более интересную альтернативу?
Ирина Прохорова: Вот я об этом и говорю! Эти лозунги – это конец очень длинной цепочки интеллектуальных раздумий, потому что за всем этим стояла мощная ужасная, но победительная идеология, которая потом вылилась в эти лозунги. Нельзя начинать с трех строчек. Ими, как правило, заканчивают. Поэтому мы и не можем эти строчки сказать. Мы можем долго говорить, что бы мы хотели. Но у нас фундамента пока нет.
Если в городе есть история, связанная только с войной, надо изобрести традицию, связанную с миром. Наверняка, кроме автомата Калашникова там жили какие-то интересные люди. Там есть своя локальная история, связанная, может быть, с местными жителями. Может там строится какой-то интересный музей (кроме музея Калашникова). Это вопрос к местному интеллектуальному сообществу, которое там живет. Вот Вы сейчас перечислили все то, что вы сами знаете про город. А кто-нибудь изучал местных краеведов? Например, у нас в стране огромное количество краеведов, но оно никогда не становится интеллектуальным ресурсом для создания локальной культуры. Можно гордиться очень разными вещами. У нас милитаристская государственная история. Значит, местное интеллектуальное сообщество никогда не ставило себе задачи создать не милитаристскую локальную культуру, которая наверняка существует. Нет самореализации для молодых талантливых ребят, которые могут создать очень интересные культурные объекты. А может там есть какие-нибудь раскопки? Это все остается совершенно не в фокусе. И кроме вас, интеллектуального сообщества, никто это делать и не будет. И надо будет ходить и бить челом, и местным властям говорить, что смотрите, это ведь предмет нашей гордости. Задачи такой не ставилось никогда. В этом и проблема, потому что мы сами находимся в этой системе координат.
Сколько историй было, как вообще создаются территории. Все знают историю села Мышкино на Волге, которое было совершенно стагнирующее и гибнущее. Нашелся один креативный человек, который обыграл это слово «мышки» и сделал музей Мыши. И договорился, что все туристические пароходики, которые идут по Волге, останавливались в этом музее. Вокруг музея возникла целая туристическая индустрия (подделки, сувениры). И все это стагнирующее село живет за счет этого музея. Вот это и есть эта культурная индустрия, которая преображает страну. И сейчас во всем мире этим пользуются. Наше правительство, которое любит экономить на культуре, считает, что она должна сама себя кормить. И они говорят, что Эрмитаж тратит много денег (это такая известная история). Никто никогда не считает, что, давая сравнительно небольшие деньги Эрмитажу, он кормит город Петербург. Потому что, известно, что если закрыть, например, Лувр или Эрмитаж, количество туристов сократится в два раза. Потому что это то самое градообразующее предприятие. Поэтому эти деньги триста раз отбиваются туристами, гостиницами и ресторанами. А у нас одно мышление: что это мы деньги музею дадим? Такое заскорузлое мышление во многом даже и в нас с вами сидит. Так что, развивая или создав какой-то один альтернативный музей, вы неожиданно создаете другое пространство. Путь будет музей Калашникова, но ради этого не поедут к вам в Ижевск. А на какие-то современные примеры культурной индустрии точно поедут. Или какие-то прекрасные природные моменты, где делаются заповедники. Потому что сейчас экологический туризм очень важен. Но никто кроме интеллектуального сообщества этим точно заниматься не будет. Чего на власть то кивать. Она физически не может нас всех снабдить всем, что нам нужно.
Сергей Решенко (Калининград): Наша история и наши учебники пестрят героями-тиранами. Вы упомянули героев демократии. По-вашему, в нашей российской истории есть герои демократии? И кто они?
Ирина Прохорова: Это отличный вопрос. У нас когда происходит brainstorm с историками, я говорю: «Ребята, давайте начнем с простого. Вот в официальной истории основные личности такие. А вы можете сделать альтернативный ряд? Если бы вы писали историю с нуля, какие герои бы там действовали?» И начинается бормотание. Ну, вот Андрей Курбский, например. Он не демократ, но он оппонировал Ивану Грозному. Я бы сказала, что мы знаем какие-то фигуры, но есть и много, которых мы не знаем, ровно потому, что они никогда не выходили на сцену как главные герои. Например, история Реформаторства в России. Вроде книги есть, но в общественном сознании они существуют либо как отрицательные величины, либо вообще никак. Но ведь изменения то происходили, и много позитивных. Нельзя же сказать, что история российского государства – одни поражения и провалы. И это благодаря большому количеству людей, которые действовали. Не обязательно это должны быть фигуры, связанные с политической деятельностью. Это могут быть люди, связанные с наукой и искусством, какие-то мыслители. Но они могут быть главнее, чем тираны в этой системе координат. Общество же никогда не развивается как монолит. И у разных слоев своя динамика развития, на что никогда в государственной истории не смотрят. Поэтому я и говорю, что здесь должна быть пересмотрена вся матрица. Другая оптика вас заставит вытащить совсем других героев, которых вообще знать не знали.