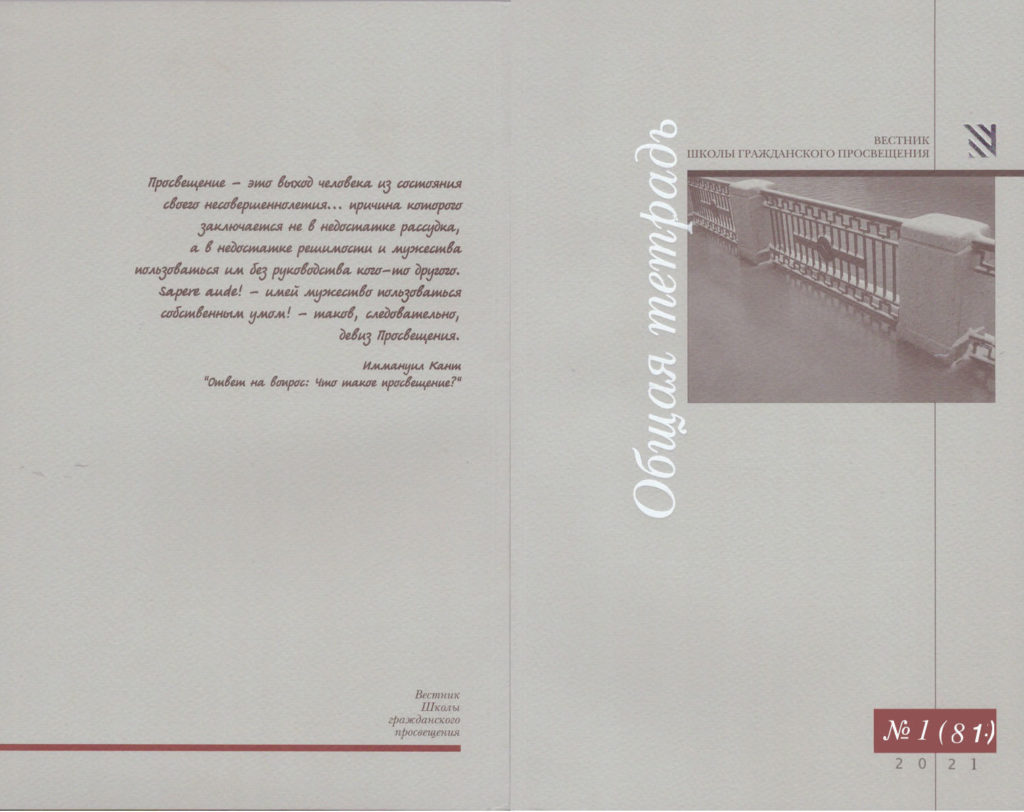Выступление постоянного эксперта Школы, старшего научного сотрудника программы Меркатор британского аналитического агентства Chatham House Квентина Пила (Великобритания). Стенограмма выступления расшифрована постоянным участником программ Школы Ириной Мордасовой (Новгородская область).
Я поделюсь с вами мыслями такого уже античного журналиста, просто динозавра этой профессии. Я пошел работать в 1975-м году в Financial Times, а стал журналистом за пять лет до этого. Я учился своей профессии в провинции, в Ньюкасл-апон-Тайн — это судостроительный район, шахтерский. И там я понял, что журналистика, в первую очередь, это про людей и для людей. Она должна быть о том, что интересует людей. Это очень хорошее правило, кстати. Даже если все кажется очень мрачным, помните, что журналистика — это про людей.
За эти годы я столкнулся с удивительной трансформацией технологий. Как журналист я начинал работать на пишущей машинке. И вот, от нее я перешел сначала на телефакс, потом на телекс, потом на факс, потом на эти ранние компьютеры, которые мы называли Тэнди, а потом, когда я снова вернулся в Москву в 1988-м году, я опять начал работать на телексе. Почему? Потому что наши друзья из КГБ отказывались передавать компьютерные сигналы из Москвы. Нужно было, чтобы они исходили по телексу, чтобы их можно было читать. В итоге что мы делали? Мы писали телекс и направляли его в Хельсинки, а там они телекс-соообщения переводили в компьютерные сообщения. Чудеса тех славных дней бывшего Советского Союза поразительны!
Тогда мир двигался куда как медленнее, но это был более вдумчивый мир. Оставалось время подумать, что ты делаешь. Конкуренция, наверное, была не столь яростной. И первое, что я хотел бы сказать вам: появление интернета, на мой взгляд, настолько же великая революция, как изобретение печатного станка и типографии в 15 веке. Это в действительности абсолютно освобождающая технология. Также это удивительная технология, которая подрывает какие-то основы.
Вспомните, что сделал печатный станок? Он, по сути, подорвал монополию власти церкви, что привело к расколу римско-католической церкви. Просто потому что все люди смогли читать на своем языке Библию. Мартин Лютер сел и перевел Библию на немецкий язык за поразительно короткий срок, за три месяца. И таким образом стал основателем немецкого литературного языка. После этого была 30-летняя разорительная война, которая опустошила всю центральную Европу. (К слову тогда погибло две трети населения нынешней Германии). Это было поразительное возмущение.
Возможно, нынешняя интернет-революция окажется столь же яркой. Будем только молиться, чтобы еще одной 30-летней войны не было. Хотя то, что происходит на Ближнем Востоке, возможно, говорит и о 30-летней войне… Потому что интернет, точно так же, как и печатный станок, позволил простым людям получить доступ к огромному массиву информации, о котором они даже и мечтать не могли. Но также это, безусловно, имеет крайне деструктивный характер. И мы как журналисты, должны помнить об этой дихотомии. Потому что сейчас мы настолько завалены информацией, что просто утопаем в ней, и старые традиционные средства массовой информации, будь то газеты, радио или телевидение, постепенно уступают место интернету.
Я вчера был на встрече в Чатэм Хаусе с Карлом Бильдтом, и мы обсуждали, откуда люди теперь узнают новости. Каждый день телевидение теряет свою власть. Газеты тоже становятся слабее. Все мои дети и внуки смотрят новости только по интернету. Это означает, что мы, традиционные средства массовой информации, больше не контролируем информацию. Теперь кто угодно может ее контролировать. И не только контролировать. Компьютерные технологии, которые у нас есть, как вы прекрасно знаете, дают людям возможность фальсифицировать информацию, изобретать картинки того, что никогда не происходило.
Выстраивание и укрепление доверия становится гораздо сложнее, если люди не понимают — демонстрируемая им картинка настоящая или поддельная? Как работает машина пропаганды, которую построил Владимир Путин? Она основана на том, что всегда может просто начать задавать вопросы: «А что, это правда, то, что вы говорите?». Понимаете? Это не геббельсовская, конечно, пропаганда, это куда как более отточенная, опасная форма пропаганды. И наша битва состоит в том, чтобы доносить до людей правильную, объективную, истинную информацию. Но наша задача с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Мои дети — а я завел их более, чем, наверное, следовало, у меня пятеро детей — откуда они берут всю информацию? Из интернета. Мой младший сын просто там сидит днями и ночами, ему нравится в интернете. Но как он проводит грань между вымыслом и фактом?
Наверное, наиболее успешная коммерческая газета во всей Великобритании сегодня — это Daily Mail. И Daily Mail прекрасно привлекает свою читательскую аудиторию фотографиями пингвинов или таких мягких мишек пушистых. Но тем нее менее у них есть своя повестка дня, которая против Европы, против иммигрантов. И вот эта смесь развлечения, всего такого пушистого, и пропаганды очень пугает. Как мы можем получать объективную информацию? И как ее увидеть?
Что меня беспокоит в отношении интернета — я здесь, конечно, как динозавр с каждым словом буду казаться вам древнее и древнее, — это то, что можно назвать «блогификацией новости». Блог — это, конечно, замечательное изобретение. Но по определению блог — это всего лишь утверждение, одно мнение. Однако сейчас зачастую и факты, и личное мнение вместе сливаются в одной статье, в одном посте, в одном разговоре. И разница между фактом и анализом, с одной стороны, и мнением и комментарием, с другой стороны, начинает быть все менее и менее ясной.
Как говорила Лена, когда она меня представляла, я большую часть свой жизни провел в качестве иностранного корреспондента. Мне хотелось путешествовать по всему миру, я работал и в Африке, и в Брюсселе, и в Москве. И дважды работал в Германии: в Бонне — как раз непосредственно перед объединением Германии — и в Берлине. И после всего этого я стал еще и комментатором. Я был комментатором 10 лет в Лондоне. И я был редактором международной редакции Financial Times, отвечающим за найм новых корреспондентов. Поэтому я встречался со многими молодыми замечательными журналистами. И вот это, наверное, был самый интересный период моей жизни. Не тогда, когда я сам был репортером, а когда я пытался увидеть новых репортеров в новом поколении.
Но что меня беспокоило? Молодые журналисты приходили и говорили: «я хочу стать комментатором, я хочу говорить людям, что им надо думать». И я говорил: «простите, пожалуйста. Вы не тот человек, кого я ищу. Я хочу найти репортера. Сначала научитесь работать репортером. Сначала научитесь различать факты и вымысел. А вот потом можете стать комментатором». Если кто-то все равно хотел стать комментатором, я говорил: «идите в Daily Mail, идите становитесь политиком, но мне нужен репортер». И меня беспокоит, что в интернете это различие куда-то исчезло.
Репортеры — это люди, которые воодушевлены своей работой. Им нужны факты и точность по отношению к своим читателям — людям, которые пытаются понять, что происходит в мире. Писать про теории…. Вы знаете, это не имеет никакого отношения к людям. Пишите про людей. Не пытайтесь оказать на них влияние, пытайтесь их информировать. И за счет того, что вы будете представлять людям реальную информацию, может быть, конечно, вы окажете влияние. Но не начинайте с того, что вы пытаетесь на них повлиять.
Я сказал, что меня научили работать в провинции, на севере Англии, но в основном это была, конечно, удача, нежели чем что-то иное. Как я попал в Financial Times? Один из моих старых друзей сказал: «Вот здесь работу предлагают. Почему бы тебе не пойти». Я сказал: «Не хочу работать в газете, я хочу писать про политику, про людей». Он сказал: «Ну послушай, ты уволишь иностранных корреспондентов». (Большинство иностранных корреспондентов работает именно в Financial Times, ни в какой другой газете нет столько иностранных корреспондентов, за исключением, пожалуй, New York Times). И, наверное, это был золотой век, когда можно было получить назначение за границу, в другую страну, и писать про нее. Потому что теперь некоторые из моих коллег говорят: «А зачем нам нужны иностранные корреспонденты? У нас теперь есть интернет».
Я полагаю, что это ерунда. Если вы журналист, вы должны понимать и тот сюжет, о котором вы пишете, и место, в котором живете, даже если это иностранное государство. Но также вы должны понимать и тех людей, ради которых вы пишите, — свою аудиторию. Вы должны понимать, кто ваши зрители, слушатели, читатели. Чтобы вы могли работать, взаимодействовать с ними, чтобы вы знали, что для них интересно. То есть это двухсторонний процесс. Это фантастически дисциплинирует работу в бизнес-газете.
Максим Трудолюбов рассказывал, как он работает в «Ведомостях». К сожалению, Financial Times и The Wall Street Journal продали свои доли в этой газете. Но дисциплина работы в деловой газете в действительности это очень хорошо. Это дисциплинирует. Почему? Потому что деловых читателей не интересует ваше мнение, их интересуют факты, они хотят зарабатывать деньги. Они говорят: «Мы не хотим терять деньги». Поэтому им не подходит, если им будут говорить, хороший человек Путин или плохой. Им нужно знать, российская экономика растет или падает. Поэтому это все очень дисциплинировало. При условии что я даже никогда не писал про биржу.
Хотя нет… Я писал про московскую биржу, когда она открывалась. Я помню, как затем Борис Федоров рассказывал, как он открывал московскую биржу, когда был Министром финансов Российской Федерации. Он сам подготовил законодательство для работы биржи, потому что работал в международном валютном фонде и знал, как это делается. В самый последний момент несколько из высоких чиновников пришли в его кабинет и сказали: «Господин министр, здесь есть проблема в законодательстве». Он сказал: «В чем проблема? Я сам написал его. Говорите». Они сказали: «Да, но вы ведь ничего не сделали для того чтобы спекуляции запретить». Они не понимали, что рынки и биржи — это всё как раз про спекуляции.
Я, если можно, расскажу вам о своих собственных историях. Потому что все уроки, которые я усвоил в журналистике, они как раз вынесены из своего опыта. В 1975 году я попал работать в Financial Times и думал, что меня сейчас отправят в те страны, где я смогу говорить на своих языках. Поеду в Азию, Францию, Германию… Однако моя первая коммандировка была в Африку, в Южную Африку, потому что в 1976 году, если вы помните, — хотя многие из вас, наверное, в то время еще не родились — были беспорядки в Соуэто. И все говорили: «Вот это да! Вот теперь наступит конец аппартеиду». Большое количество бизнесменов очень много инвестировало в Южную Африку. И им нужно было знать, потеряют они деньги в результате всего этого или нет. Поэтому меня направили в Южную Африку. И прежде чем я тут направился, я пошел на встречу со своим редактором. Он был блестящий человек. Немецкий еврей, уехавший в 1930-е годы из Берлина, приехал в Лондон, сделал себе карьеру как журналист и в конце концов стал редактором Financial Times. И при этом он был очень застенчивым человеком. Он всегда старался сидеть где-то на уголке, но на таком стуле, который выше стула его собеседника. Потому он на меня смотрел свысока и говорил: «Да, господин Пил, у меня две вещи, которые я хочу вам сказать. Первое. Financial Times всегда права. Поэтому упаси бог, если вы когда-нибудь ошибетесь. И второе. В конце концов подстригитесь». В то время я не подстригся. Но я постарался первое его пожелание выполнить.
Это был замечательный период. Потому что тогда я узнал, насколько быстро режим, подобный тому, что был в ЮАР, падает. Это был авторитарный режим с очень-очень страстной идеологией, в которую они искренне верили, и это надевало шоры на них, они не видели многие вещи, которые происходили у них в стране. Они не видели, что нарождающийся средний класс в черном обществе не был доволен тем, что не может голосовать. Поскольку режим был авторитарный, он был еще и коррумпированный. И еще один из уроков, которые я усвоил: авторитарность и коррупция обычно идут рука об руку.
То, что там в итоге произошло, было интересным примером, когда государство что-то напортачило и после этого пытается что-то сделать с медиа. Что сделали южноафриканские власти? Они решили, что нужно донести свое мнение до англоговорящих южноафриканцев и до всего мира и создали новую газету, которая называлась «Гражданин». По одному названию было понятно, что это пропаганда государственная, но она была на английском. И власти должны были претвориться, что не они стоят за этой газетой. Поэтому все деньги поступали на содержание этой газеты через какие-то схемы. И это было, конечно, слишком большим искушением для министра информации и всех его чиновников. Вы понимаете: деньги оседали на их личных счетах. И был огромный скандал. И весь смысл того, чтобы сделать эту новую объективную газету, пропал. Из-за коррупционного скандала, который возник.
Происходившее тогда в Южной Африке, во многих смыслах имеет сходство с Советским Союзом. Например, мне нужно было усвоить те же самые уроки в отношении очень мощной системы безопасности и разведки, создавшей очень большие ограничения, в том числе в передвижении. Мне как журналисту запрещали посещать какие-то черные районы Южной Африки, нельзя было свободно передвигаться по ЮАР тогда. Но что было в Южной Африке, а в Советском Союзе не было, так это убеждение в верховенстве права. То есть у них некоторые из законов были ужасными, но если кто-то делал что-то против верховенства права, то что-то происходило. Вот, пожалуйста, этот коррупционный скандал. Почему он начался? Потому что там была независимая судебная система. После этого власть так изменила закон, что ничего подобного там больше не происходило. Но хорошо, что закон там был в действительности важен, что право было важно. Наверное, это из-за их протестантского вероисповедания.
Тогда я неправильно разобрался в происходящем и решил, что аппартеид еще 50 лет простоит, хотя буквально через 10 лет он рухнул. Но это стало для меня прекрасным уроком, когда я приехал в Москву, и один мой хороший друг сказал: «Вы знаете, все это, конечно, очень путает, но вы помните, империи медленно разрушаются». Но, как вы знаете, все произошло куда как быстрее, чем кто-то из нас мог подумать.
Я хочу рассказать еще одну историю в отношении моего пребывания в Африке. Потому что это как раз история про мою дорогую подругу Сильви Кауффманн. Я с ней познакомился, когда мы оба поехали из Лондона в Анголу. Она работала в агентстве France Press. Ангола тогда была в состоянии ужасающей гражданской войны. И вместе с конвоем мы поехали до юга Анголы. Вы понимаете, у нас не было никакого выбора. У нас был военный сопровождающий. Там было очень холодно, и мы надели теплые пальто. И вы знаете, нас бомбили, южноафриканские воздушные силы, потому что они воевали с коммунистическим режимом, который был на севере Анголы. И все выбежали из наших грузовиков, разбежавшись по канавам и по кюветам, и мы с Сильви были рядом. И такая интимная ситуация получилась, такая близость. Особенно когда мы обнаружили, к нашему ужасу, когда бомбардировки прекратились, что канава, в которой мы сидели, оказалась канализацией в какой-то местной деревушке. Мы вылезли оттуда, но в Африке как вы понимаете, все сухо, поэтому мы не намокли.
Как бы то ни было, все, что произошло тогда, в этой истории, дает вам прекрасную иллюстрацию того, как работали технологии раньше, старинные. Во время той бомбардировки с нами был корреспондент ВВС, мой прекрасный коллега Майкл Вулридж, которого немного поранило. Слава Богу, на нем был одет пуловер, и шрапнель буквально застряла в нем, только-только поцарапав кожу рядом с его соском слева. Как бы то ни было «Корреспондент ВВС ранен во время бомбардировок в Южной Африке» — вот такие были заголовки. А Майкл, его потом называли «шрапнельный Вулридж, всячески пытался найти связь по телефону на юге Анголы, чтобы выйти в прямой эфир и сказать: «Меня ранили, но я выжил, слава Богу». В итоге он так и не нашел работающий телефон, и прошло несколько дней, прежде чем мы вернулись в Луанду, где смогли написать нашу историю и отправить ее в редакцию в Лондон.
Сейчас даже представить себе такую ситуацию невозможно. Может быть, только если вы будете где-нибудь на востоке Сибири. Но даже там, я думаю, теперь есть возможность быстрее свое сообщение передать. Когда я был иностранным редактором, я давал нашему тогдашнему африканскому корреспонденту задание завести себе спутниковый телефон. И подумайте, это были огромные коробищи. Однако с его помощью она впервые смогла немедленно выйти на линию и надиктовать свой репортаж из Заира, который был раздираем гражданской войной. И через три дня, когда она написала этот репортаж, я у нее спросил: «Ну как твой спутниковый телефон?». Она сказала: «Квентин, это лучше чем секс». Вот как для нас было важно установить связь.
После Африки я жил в Брюсселе, где увидел совершенно другой мир. Мир бюрократии и Европейского Союза. В первую очередь мое воображение потрясал многонациональный состав этой бюрократии и политический характер всего, что происходило, так как каждая страна, каждое государство привносило на общее обсуждение собственные внутренние проблемы. Вы видите это и сегодня. Дебаты и обсуждения каждого вопроса могли занимать (и занимают сейчас) недели. А что еще мы можем сделать для того, чтобы убедить свое население, народ, что мы заключили выгодную сделку в Брюсселе?
Месье Миттеран, канцлер Коль, конечно, были там, присутствовали. Но больше всего журналисты, наверное, любили миссис Тэтчер. Госпожа Тэтчер в принципе была небольшим поклонником Европейского Союза, и она хотела получить обратно свои деньги,так как считала, что инвестиции Британии несоразмерны тому, что Великобритания получает. И журналисты всегда любили ее слушать. Миттерана слушали человека четыре, а все остальные толпились у Маргарет Тэтчер.
Но так или иначе проблема Брюсселя, проблема этой системы, в частности, в том, что журналисты из Брюсселя в основном сообщали интересное для их стран. А общая картина в общем-то гораздо сложнее. Допустим, в тот или иной день было что-то во франко-немецких отношениях, в третий день было что-то насчет Италии… Конечно, инстинкт бюрократии тяготеет к секретности. Но интересная особенность Европейского Союза в том, что там так много государств, что всегда можно получить необходимую информацию, как говорится, не мытьем, так катаньем. Я пытался получить информацию у ирландцев — у меня жена кстати ирландка — у датчан, у голландцев, и только после этого я обращался к большим странам. И, может, большие страны опровергали то, что я узнал от малых, но я обладал достаточно полной информацией для того, чтобы отстаивать свой тезис.
Для меня это был урок новой журналистики, фактически складывания пазла из огромного числа фрагментов и попытки совместить все эти элементы. Таким образом, когда вы собираете этот пазл, невозможно сказать, откуда этот синий фрагментик. Что это? Кусочек неба или кусочек моря? Вы не всегда это знаете. Именно поэтому так важно получать информацию из более чем одного или даже двух источников. Вам нужна целая палитра или целый спектр источников. Это для меня было безусловно, очень важное и волнительное время.
В 1987 году ваш покорный корреспондент целый год учил русский, чтобы поехать и жить в Москву. Однако в Гарварде он встретил девушку, которая была прекрасна, но придерживалась консервативных взглядов и сказала, что никогда в жизни не поедет в Москву. В результате, когда мне пришлось оставить замечательные брюссельские рестораны и переместиться в Москву, моя жена сказала «только через мой труп». И мне потребовался целый месяц, чтобы ее убедить.
Разумеется, это был совершенно необычный период в истории России, так как наступила эра гласности. Конечно, гласность в основном относилась к истории и ни в коем случае не предлагала новый формат беспристрастной журналистики. Но для журналиста, приезжающего в страну впервые, это было удивительное время. Это было время, когда мы посещали Верховный совет и Совет народных депутатов, где говорили о вещах, о которых немыслимо было говорить ранее в Советском Союзе. У каждого из нас в кармане была пачка сигарет Marlboro в качестве маленького подарка. Я вспоминаю свою встречу с академиком Леонидом Абалкиным. Он курил одну за другой, одну за другой, нескончаемо, по американскому телевидению. Можете предположить насколько это было в общем-то потрясающим зрелищем. Как раз в это время в Америке курение подвергалось остракизму.
Так или иначе это было время замечательное. Для моих русских друзей, Лены, Юры и многих других, это было тяжелейшее время. Но тем не менее это был волнительный период моей жизни. Я работал с рассвета до сумерек, и потом только к полуночи мы обедали. В 8 утра я уже выходил из дома и писал для газет. Мои коллеги в других частях мира просто зеленели от зависти к тому, что я нахожусь в Москве. Люди, которые работали в Швеции или Испании, ни строчки не могли всунуть в газету.
Наша основная задача состояла в том, чтобы попытаться донести более или менее логичное послание, посыл. Попытаться разобраться в том, что происходит в действительности. Как и почему человек, который выглядит (и в сущности является) классическим аппаратчиком, решил фактически создать новую политику? Лично я считаю, до сегодняшнего дня мы так и не знаем ответ на этот вопрос относительно Михаила Горбачева. Мне кажется, в любом случае, если Михаил Горбачев не начал бы этот процесс, я думаю, прошло бы немало времени, прежде чем новые веяния возобладали бы в Советском Союзе.
Может быть, в известном смысле эта проблема дотянулась и до сегодняшнего дня. Потому что распад Советского Союза произошел слишком быстро в исторической перспективе. А умение или привычка жить без империи — это тяжелейший урок. Британцы, англичане, мне кажется, до сих пор этот урок не усвоили. Они, пожалуй, до сих пор полагают, что они имеют свою империю, свои особые отношения с Индией или Африкой. Что, конечно же, неправда. И в этом смысле можно сказать, что британцы крайне недовольны своим отношением с Европейским Союзом или с континентальной Европой — во многом именно потому, что британцы видят или хотят осознавать свою исключительность. Точно так же как, пожалуй, сегодня и россиянам пора привыкнуть к тому, что империи нет. И мне кажется, что президенту Путину больше всего хотелось бы сидеть за одним столом с американским президентом, обсуждая судьбы мира. И тот факт, что в ряде случаев Владимиру Владимировичу приходится обсуждать вопросы с европейскими политиками, и что его страна не воспринимается как сверхдержава, представляется для него проблемой.
Я помню, что он прекрасно знал, чего не любит Ангела Меркель. Речь идет о собаках. Она действительно не любит собак, она боится собак. Ее в 7 лет укусила собака. И во время первой встречи с Ангелой Меркель Кони, лабрадор Путина, вошла в комнату. И пресс-секретарь Меркель рассказывала мне об этом: «Кони вошла и положила голову мне на колени, когда мы обедали. Ангела Меркель была в абсолютной ярости. Но она была в ярости не от того, что Владимир Путин ее так провел. Она была в гневе на саму себя, потому что она ничего не сделала, не сказала: «Уберите собаку». Она этого не забыла».
Вы знаете о ситуации в России гораздо лучше. Хотелось бы мне узнать, ощущаете ли вы замечательный вызов вашей работы в России?! Совершенно очевидно, что время, которое я провел в Москве, во многом было насыщенно противоречиями. И пожалуй, журналистика у вас до сих пор находится в сложном положении. Тот рассвет, который мы, можно сказать, видели в середине 90-х годов, был фактически полностью скомпрометирован президентской избирательной кампанией Бориса Ельцина в 1996 году. И мне представляется, что в известном смысле не было ничего удивительного в приходе президента Путина и во введении контроля над средствами массовой информации посредством вначале очень тонкой пропаганды.
Лично я убежден, что президент Путин — временная фигура. Империи больше нет. Империя не вернется. Просто сейчас у вас период, который Россия проходит на волнах ревизионизма на пути к, простите за ужасное слово, нормальной стране. Это действительно болезненный, мучительный период. Но мне не кажется, что у сегодняшнего президента есть видение будущего России. Он, на мой взгляд, не шахматист, а покерист.
Последние четыре года, до прошлого года, я жил в Берлине. Там вы находитесь в весьма своеобразной ситуации. Потому что мои новостные редакторы постоянно хотели какого-то рода сенсационных материалов. «Нацисты возвращаются», «Правые усиливаются» и т. п. Однако мне кажется, что современная Германия — это в общем-то весьма федеративная страна. И совершенная вера среди сегодняшних немцев в ценности децентрализации заслуживает всяческого внимания.
Ангела Меркель всю свою жизнь провела в политике, убеждая коалиционных министров и пытаясь совместить интересы разных политических сил. «Я, — говорила Ангела Меркель, — не стучу кулаком по столу». Это вопрос искусства компромисса. Кроме того я должен сказать, что Ангела Меркель — это человек потрясающей нравственности. И она очень осторожна. Мне кажется, это одна из причин, по которой сегодняшнему российскому президенту сложно иметь с ней дело. Однако, мне кажется, что помимо этого вся Германия сегодня — это страна, которая не хочет стучать кулаком по столу.
Ангела Меркель в Германии, на мой взгляд, следует требованиям морального компаса. Хотя бы учитывая ее позицию в отношении переселенцев, в отношении вынужденных мигрантов. Мне кажется, что преобладающие взгляды в сегодняшей Германии это не реваншизм, а, наоборот, потрясающая готовность интегрировать в свое общество миллион беженцев. И мне кажется, что большинство в Германии пока еще находится на гребне политической волны, несмотря на обратные, противоположные течения, связанные с настроениями правых.
Я думаю, многие в Германии понимают, что такое беженец. Тогда как в Великобритании, на мой взгляд, подобное понимание совершенно не разделяется. И мне кажется, общее отношении Великобритании к вопросу беженцев отвратительно. В Великобританию приехало, если я не ошибаюсь, две тысячи сирийских беженцев. Это попросту нелепо.
Лично я считаю, что интеграция возможна, что она несет экономические плюсы, экономические преимущества, учитывая демографическую ситуацию в Европе, учитывая ситуацию на рынке труда. Интеграция новых мигрантов в общество мне кажется безусловно разумным шагом. Да, разумеется, мы видим, проблему, связанную с преимущество мусульманским происхождением и религией большинства переселенцев. И мы действительно наблюдаем своего рода столкновение культур. Тем более на фоне снижения числа добрых христиан или прихожан в Европе.
Я хочу заключить следующими словами. Сегодня мы различаем два типа журналистики. Первый — это так называя простая журналистика. Журналистика, когда журналисты потакают предрассудкам и говорят людям то, что они по сути хотят услышать. Например, «нам нужно закрывать границы»… Но есть и другая журналистика. Журналистика, которая, как я надеюсь, приведет нас к более нравственной позиции.
Говорите людям то, что, возможно, они не ожидают. Предлагайте смелые идеи. И самое главное — ни в коем случае не потакайте предрассудкам. Ни в коем случае не идите на поводу у предрассудков. Но напротив — пытайтесь ставить под сомнение собственные предрассудки. Совершенно очевидно, что это сложная позиция. Но подлинная, истинная история как раз-таки и рождается из вашего собственного удивления, из того, что вы с удивлением для себя обнаруживаете, что это не так, а как-то иначе.
Мы, журналисты, в целом люди упрямые и храбрые. Мне кажется, сегодня западные журналисты живут в, так скажем, более простом мире, чем вы в России. Существует ли журналистика расследований на Западе? И существует ли она в России? Нам необходимо быть храбрыми, но нам нужно быть и смиренными. Потенциально мы имеем огромные рычаги влияния. В том числе посредством работы в кибер-пространстве.
Но бой за независимые газеты, за независимую прессу тем более критичен сегодня — в мире, когда передача информации по сути является кровотоком всякого общества. И мне кажется, что это жизненно необходимо для каждого нашего общества. Если, не дай Бог, мы дадим победить пропаганде, мы попросту сползем в полную диктатуру. В этом контексте освобождающее влияние интернета как раз-таки и приходит нам на помощь. Мне кажется, интернет преображает мир. Хотя во многом процесс этот будет неудобным, некомфортным.